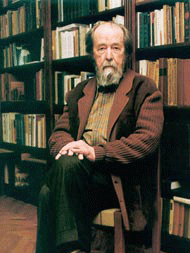
Александр Солженицын: "Его цель - показывать прекрасное"
Слово при вручении литературной премии Игорю Золотусскому
14 апреля в Доме русского зарубежья в Москве состоялось торжественное вручение Литературной премии Александра Солженицына известному критику и литературоведу, ведущему исследователю творчества Гоголя Игорю Золотусскому. Первый критик за восьмилетний период существования Солженицынской премии был награжден «за масштабность художественно-критических исследований современной словесности и глубинное постижение гения и судьбы Гоголя: за верность, в независимом поиске, традициям и нравственному достоинству русской литературы». Ранее лауреатами премии Александра Солженицына становились: филолог Владимир Топоров, писатели Валентин Распутин, Леонид Бородин, Евгений Носов, Константин Воробьев (посмертно), философ Александр Панарин. В прошлом году ее обладателями стали режиссер Владимир Бортко и артист Евгений Миронов за работу над сериалом по роману Ф.М. Достоевского «Идиот». Мы предлагаем вниманию наших читателей полный текст выступления Александра Солженыцина, зачитанного при вручении премии Натальей Солженицыной, а также текст ответного слова Игоря Золотусского.
Поучительна – линия творческой жизни Золотусского. На её протяжении он, десятилетиями, одновременно работал на двух разных уровнях: собственно литературного критика, неустанно и постоянно следящего за литературным процессом (с конца 60-х годов XX века), занятого разглядыванием того высшего, лучшего, что пробивалось или, после долгой потаённости, проявлялось сквозь жёсткую кору советских десятилетий, – и углублённого исследователя вершин русской литературы XIX века (большей частью – Гоголя).
Манера работы Игоря Золотусского собственно в критической области – отнюдь не мгновенные, скорейшие отзывы-рецензии. Неоднократное вчитывание и перечитывание уже прочтённого; не раз потом ещё снова, снова возвращаясь к уже разработанному прежде автору, с дополнительными соображениями. Такая методика открывала ему и возможность иногда развёртываться в статьях-обобщениях обо всём идущем литературном процессе, в целом за какой-то период, с оглядом череды авторов. (Самая трудная форма литературной критики. Мы встречали её: от Белинского до Замятина.) Приём критического обзора, отбора имён и качеств, – требует и большой зоркости и широты художественного восприятия. (Таковы его статьи «Мозаика», ещё более – «Час выбора», были и потом.) Золотусский признаётся: «Следить за движущейся прозой – дело трудное. Ещё труднее знать, куда она движется. Тут – дробные черты движения. Упусти малое – не высмотришь что-то в общем. Судьба критика нелегка. Дар ясновидения, дар видеть всю даль процесса – столь же редок, как дар эпоса в поэзии». Вполне справедливо.
А форма таких обзорных суждений – сама тянется перерасти в обобщения принципиальные – и наш критик неизбежно вступает в них. Он должен и художественно и мировоззренчески осмыслить весь материал. Импульс Золотусского: выявить и сохранить то, что драгоценно. Жажда (по совету Гоголя): «показывать прекрасное», «показывать читателю красоты в творениях наших писателей, возвышать их [читателей] душу и силы до понимания всего прекрасного». Формальная критика по эстетическим канонам – почти отсутствует у Золотусского. Он постоянно движется в круге нравственного восприятия. В нём он ищет ту общую основу, которая отмеченных им достойных писателей – объединяет и включает в подлинную русскую литературу. Но и – по признаку же преемственности к наследству, «уважения к преданию» (Пушкин).
Сам для себя критик никак не расстаётся с этим ощущением. В особой статье «Уважение к преданию» он и находит место высказаться о задачах литературной критики и сути её: «Талант в критике так же единствен, как и в других родах литературы. Он сам вырабатывает законы своего мастерства. Крупный критик не ставит себе мелких целей, он мыслит в масштабе своего таланта». Напоминает и от Гоголя: «Критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением».
Высотой своих обобщений Золотусский оправдывал высказанные тезисы об уделе критика. Работы его пронизывает устойчивая духовная составляющая. У него – отчётливое и тёплое христианское мироощущение, отзывность к горю и милосердию.
Во всяком изложении, чего бы Золотусский ни коснулся, он обращён к нам открытым чувством и увлекательным языком. Ещё и особым, незаменимым для критика, даром он наделён: способностью художественно передать читателю разбираемый авторский замысел. Может быть, это особенно сильно сплелось при разборе поэтичнейшего рассказа Евгения Носова «Шумит луговая овсяница»: тут уже не разделить, где чувства автора, где чувства критика. И доходит до заклинания: «Полнота и красота всё более делаются потребностью нашей литературы, в ней наш выбор, наша надежда и наше общее будущее». С таким же разделённым чувством он, горожанин, воспринимает и всякий русский пейзаж и деревенскую жизнь. Вся критика его тесно сплетена с собственной тканью русской литературы.
С такой общностью задач, поставленных себе, и с такими литературными приёмами, свойственными ему, Золотусский вовсе не часто печатал свои критические очерки о писателях советских десятилетий, а иногда оборачивался и в XIX век, к русской классике.
Не без усилия далось ему вывести из преднамеренной, пристрастной тьмы трагического неудачника Константина Воробьёва – первого, написавшего о военнопленстве, да и о ранних фронтовых боях 1941 года. Критик – сопереживает, силится и сам углубиться во фронтовые ощущения не своего, старшего поколения. («Очная ставка с памятью», 1981.)
И чувством же своим углубляется в жестокую напряжённость военной поры в партизанских повестях Василия Быкова, в его «накалённое письмо» и безвыходную, повторную и повторную обречённость выбора: «или отречение от совести или верность ей».
И – зорко высвечивает вовсе безвестную у нас, замолчанную, затоптанную тему – подневольного труда в Германии, «остовцев», в жгучих повестях Виталия Сёмина – весьма талантливого, тоже безудачливого, придушенного советского писателя («Воля к возрождению», 1981) – и как Сёмин нашёл в себе душевную высоту подняться выше возмездия.
И прослеживает («На тропе сопротивления», 1997) волевой, непреклонный, последовательный путь Георгия Владимова – от «Большой руды», через «Три минуты», через «Руслана» (тут – глубокая трактовка духовного замысла повести: беззаветной рыцарской собачьей службы – ГУЛАГу, и ему ли только?) – и до «Генерала».
Наблюдательно оттеняет Золотусский совсем особую литературную позицию Бориса Можаева: в личине «ухарского, отлётистого, занозистого юмора» и при «крепкой, самородной, умной крестьянской речи» – бодрая, в свежих формах борьба за правду земли и деревни.
И ещё же – безропотного фронтовика и печального певца деревни Евгения Носова.
И сотрясённого страдателя деревни – Фёдора Абрамова – всю его «галерею русских баб», – мужественно вытянувших село и землю в войну и после неё, и детей своих (когда – и мужей своих), и самих себя. С художественной силой и «трепетом сердца» (так названа и статья об Абрамове, 1981, и вся первая книга очерков несуетливого критика) – перенимает и себе (и нам) – всю боль писателя, с такой отдачей перенимает, будто и сам – соавтор.
В череде обозреваемых современных писателей с большими подробностями и не в одном своём очерке обращается Золотусский к Василию Белову, особенно выделяя поэтичность этого прозаика во многих его книгах – как в «Ладе», так и в других: «О чём бы ни писал он – он всюду поэт», «а «Привычное дело» потрясло меня, это была поэма, а не повесть». И в «Росcтанном холме», «Плотницких рассказах», «Братьях» – «мотив прощения, милосердия и незлобивости за трудную прожитую жизнь». Ещё ж и «народное слово, живорождённое», фольклорное богатство; и органическая связь с русской традицией, «учительский дух русской литературы бродит в книгах Белова», «в нём отзываются родные голоса русской классики».
Вообще справедливо подытоживает Золотусский: «Деревенская проза – лучшее, что появилось в нашей литературе за последние [70-е] годы».
С острой отзывностью трактует Золотусский и Василия Шукшина, в разных местах касается его рассказов – но сильней всего сам захвачен и передаёт нам впечатление от разинской темы у Шукшина (и личном авторском преломлении её в «Калине красной»). «Разин его неотвязная тема», «невоплощённый идеал», «мука и боль, плач над Разиным», «Разин удовлетворяет духовный мятеж Шукшина».
Находим мы у Золотусского и разбор Юрия Трифонова (с меткими оценками, что повести его, однако, сиюминутны и даже «примораживают читателя», ибо «мысль, управляющая Трифоновым, холодна, он подтягивает изображение к логике»). Касается Золотусский и Айтматова, упоминает и Конецкого. Обзор прозы 70-х годов озаглавлен «Оглянись с любовью», 1980. – Предупреждает в нём и Юрия Казакова, что тот становится – пленником своего однажды выбранного стиля (как и Зощенко прежде, а «Хемингуэя стиль замучил»).
Однако уже нависает вопрос: а что ж – Золотусский никого не «разносит», не «громит», как это приличествует утвердившемуся критику? А уже видели мы выше: его цель – «показывать прекрасное», выдвигать к читателю на заметку и выявлять то, что может быть наиполезней его душе. Золотусский – благожелательный сопроводитель русской прозы, он сосредоточен на стержневом процессе нашей литературы. Но это никак не значит, что критик берётся прикрывать ущербное. Изнехотя касается он и таких авторов, и таких книг (более полагая, что само Время отметёт их и круче, и резче, – так тратить ли на них критическое искусство?) Но и, предупреждающе обнажая их пороки, – Золотусский никогда не позволяет себе оскорбительных выпадов, как это принято у заносчивых рецензентов. Он не унижается до «разгрома» произведений неудавшихся или ничтожных, не тратит душевных сил на их разоблачение.
А вот – «мовизм» – искусственно издуманное на старость Валентином Катаевым призрачное «направление», ретиво подхваченное иными молодыми. «Мовизм выедает душу таланта, оставляя одну наблюдательность», «остеклённая наблюдательность», «холод гранильной мастерской». «Так называемый «мовизм» – способ уйти далеко в изострении пера и фантазии головы. Но он ничего не может дать сердцу…» И это сказано (1974) на 30 лет вперёд всем фокусникам, ещё и до 2000-х годов.
Вот – Андрей Вознесенский: «Серийно налаженное новаторство»; «метафора, не обеспеченная нравственно, делается обоюдоострым оружием, поражает и самого поэта»; «много развилось у нас такой литературы». (В 90-х годах – хлынет ещё погуще…) И отвадка ему на его фокусные «Похороны Гоголя» и даже «монолог Гоголя» из гроба. И тут снова из Пушкина: надо же проявлять «уважение к преданию», «ко всем, кто трудился до нас».
Вот – проза Окуджавы. «Мерси» – «виртуозно переписывает и копирует булгаковскую эксцентрику – но я остаюсь холоден к его технике. Пародируется документалистика, пародируется фантастика».
«Много рыцарей новой прозы ищут новых форм, чтоб оформить несостоявшееся содержание». (Названия очерков: «Бедные дети распада», 1993; «Нигилисты второй свежести», 1998.).
Вот о Данииле Гранине; о его романе «Картина»: «подмалёвка любви», «инженерия любви», «задание вместо человека». Да и «технократическое отношение к слову», «в речи – штампы и проходные слова, глухота к слову». – И ещё – об авторской осмотрительности Гранина (очерк «Без риска», 1982): «Если дойдёт до риска, где правда как бы превышает себя, обретает свободу, которая уже не поддаётся ни расчёту, ни вдохновению, то тут же последует и остановка над пропастью, [автор] всё притормозит и мирно отбуксует обратно туда, где нет ни страха, ни риска».
Терпеливо и основательно разбирает Золотусский и сухой, невдохновенный учебник литературы для вузов («Литература 70-х годов»).
Однако для критика, так занятого уходом в Гоголя, есть же и классика современная. С расстоянием в 10 лет (1974, 1984) Золотусский протягивает через взор и сердце – романы Михаила Булгакова. Среди многих появлявшихся тогда и потом трактовок «Мастера и Маргариты» Золотусский предлагает, на моё ощущение Булгакова, самую незамысловатую и точную: «команда Воланда осуществляет великую гоголевскую идею возмездия, расчёта с силами, необратимо ставшими на путь зла», «булгаковский смех рассчитывается с реальной нечистью в реальной Москве конца 30-х годов», «стихия мщения, возмездие от искусства». (Вдоль проблемы сотрудничества с чёртом не упускает Золотусский произвести и различительное сравнение с гётевским «Фаустом».)
А в «Русской звезде» (1984) Золотусский вновь возвращается к «Мастеру», но уже в сопоставлении – очень свежем, смелом (и рискованном) – с «Белой гвардией», то есть первого и последнего романа Булгакова, соединённых авторским внутренним, годами преображённым мироощущением. Жанр этого очерка – местами сам по себе художественная работа, в таком ключе соучастия с молодым, а потом предсмертным Булгаковым он написан, и использует доводами вполне художественные средства. (С повторными мотивами из Апокалипсиса.) Эта попытка связать романы – углубляет понимание и того, и другого, и их глубокое родство с русской литературной традицией.
Сверх последовательного десятка статей о Гоголе (это – кроме отдельной книги о нём) – есть у Золотусского и несколько примечательных очерков о русских классиках, иногда в сопоставлении их: Гоголя с Пушкиным («Двух гениев полет», 1999), Толстого с Чеховым. Тут и размышление о нашей прозе на переломе от XIX к XX веку («На перекрестке эпох», 1998). Или о сквозных, через многих авторов, мотивах христианских и демонических, болезненно завязавшихся в Блоке, очень сильные страницы («Красота истины», 1990).
Охватное уяснение методов и границ литературной критики – постоянно заботит Золотусского. Удел критики – «говорить с публикой языком, понятным всем. Критика, переняв от литературы её трепет и связь с миром, – [сама] сделалась частью литературы». «Выбор в критике – уже талант. Хорошо писать о пустом – невозможно». И не может быть искусства анализа без искусства чтения текста.
И не может Золотусский миновать неизбежного вопроса: а где граница между критикой и литературоведением? «Раз уж наука о литературе появилась, то так было нужно». Но и – не цитатная наука с расхожими штампами. Критика отличается от литературоведения тем, что живо участвует в текущем литературном процессе. «Наука – уступает образу в способности постичь вечное. Образ – безначален и бесконечен, он уходит и в прошлое (память) и в будущее (интуиция)».
Этот весомый вопрос видится назревшим. И ещё не определившимся сегодня. Особенно: имея в виду таких критиков, которые художественно не отделяют себя от разбираемых текстов, кто столь ощутимо сроднён с самой литературной тканью, как редко бывают литературоведы, да и не ставят себе такой задачи.
Всею своей многолетней работой Золотусский даёт пример и урок нашей нынешней литературной критике. Но, увы, остоялся почти в одиночестве. Сам тип критики, предложенный и развёрнутый Золотусским, не был перенят, поддержан советско-российскими критиками, не повлиял заметно на общее русло.
Для совокупности работ Игоря Золотусского – органична и его тоска от нынешнего разгрома русской духовной традиции. «Эпоха нашего духовного распада» конца XX века больно отозвалась в нём. (И – что могло проистечь иное, если «десятилетиями из них выколачивали христианство»?) Этим мироощущением пропитаны такие работы, как «Красота истины», 1990; «Русская тема», 1994; «На перекрестке эпох», 1998.
И нельзя не разделить тревожный вывод критика: «Слом духовной иерархии – нечто более капитальное, чем смена политического режима. И это – вопрос не одного поколения, а – десятка веков».
Испытание духа: ответное слово Игоря Золотусского



























