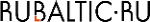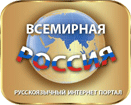Русская революция в контексте теории "цивилизационного маятника"
Семнадцатый год явился апогеем процесса западнической модернизации. В осуществлении модернизационных трансформаций парадоксальным образом совпадали усилия правительственных кругов и революционного подполья. Но этот апогей пришелся не на Октябрь, а на Февраль. Дальнейший ход общественного развития определялся уже логикой цивилизационного отторжения. Миссия осуществления данного поворота выпала на большевиков. Могла выпасть и на кого-то другого, к примеру - Л.Г. Корнилова. Сами большевики саморепрезентовали себя совершенно иначе. Но логика истории заставляла их неосознанно служить своим высшим задачам.
Теория цивилизаций традиционно вызывала критику своим статичным характером. Ей ставилась в вину нивелировка базового для истории принципа развития. Данная ограниченность подхода преодолевается в рамках концепции «цивилизационного маятника».
Маятниковые характеристики обнаруживаются в природе кризисов общественного сознания, под которыми в соответствии с этимологией греческой версии слова понимался исход, поворотная точка, смена вектора развития. Трансформации, сообразно с концептом цивилизационного маятника, есть следствие инноваций. В формате инновационных модификаций представлен универсальный путь развития общественных систем. Однако инновации объективно вызывают действие сил цивилизационного отторжения. Они задают обратный ход маятникового механизма. Кризисы в этом смысле есть максимальные точки размаха маятника. После достижения точки кризисной амплитуды наступает смена вектора движения (развития) всей системы на противоположный. Периодичность кризисов в истории России (фактически при каждой новой интронизации) особо наглядно раскрывает сущность маятниковых инновационно-цивилизационных инверсий. Данное понимание позволяет фиксировать ритмику кризисов общественного сознания, прогнозировать формат трансформаций и определять исторически заданную рецептуру реагирования на трансформационные процессы. Это не означает отрицание инновационного пути, а, напротив, позволяет посмотреть на кризисные колебания как исторически объективное детерминированное явление.
Еще в XIX в. была замечена устойчивая повторяемость в идеологическом смысле российских государей через одного. Доминанта западнических тенденций в политике одного неизменно сменялось почвенническим поворотом в последующем царствовании. Маятниковая ритмика происходящих в России инверсий еще более наглядно прослеживается и в двадцатом столетии. Проявление хода цивилизационного маятника обнаруживаются в самых различных сферах общественного бытия.
Экономический аспект истории может быть выражен в формате циклических колебаний между полюсами государственного управления и рыночной саморегуляции. Когда бюрократическая рутина становилась сдерживающим фактором экономического развития, узды государства несколько ослабевали и приоритет развития смещался в сферу частного инициативного предпринимательства. Однако, с обеспечением временного инновационного прорыва, переориентированная на интересы предпринимателя, экономическая система оказывалась в состоянии разбалансировки. Актуализировался курс на очередное усиление государственно-управленческих механизмов в экономике. Если с такой переориентацией правительство запаздывало, возникал экономический кризис. Принятие концепта маятникового развития экономических систем позволяет создать более сложную, чем имело место до сих пор, модель долгосрочного планирования. Линейной схеме противопоставляется в данном случае программа, предусматривающая периодичность векторальной переориентации в рамках общей стратегической платформы экономического курса.
Демографическая история России также позволяет четко проследить маятниковую траекторию в преломлении к динамике естественного воспроизводства населения. Наложение на шкалу интронизаций показателей репродуктивной активности российского населения точно фиксирует западническо-почвенническую идентификацию монархов. При царях-«западниках» общий коэффициент рождаемости в России, варьируясь по годам, в целом снижался, тогда как при «почвенниках» возрастал. Зигзаги демографической динамики в России фактически на всем протяжении XX столетия также соотносились в общих чертах с режимом ценностных инверсий. Отрицательными в демографическом плане хронологическими интервалами отечественной истории статистика определяет ленинский и ельциновский периоды. Характерно, что оба они были связаны с резким революционным разрывом с традицией цивилизационной идентичности России.
Применение теории цивилизационного маятника в качестве объяснительной модели феномена российской революции позволяет переосмыслить некоторые сложившиеся историографические стереотипы. В частности, разрушается традиционная спектральная дифференциация между «левым» и «правым» полюсами. Под каждым из маркеров «консерватизм» и «революция» обнаруживаются две векторально антагонистические силы. Цари могли выступать в качестве революционеров, а революционеры в качестве консерваторов.
Увлеченная европейским просветительством императорская власть сама раздувала пожар революции, подготавливая собственную гибель. Затеянная Романовыми европеизация России отнюдь не имела объективной заданности и потому вызвала цивилизационное отторжение. Напротив, большевики, прикрываясь левой фразеологией, по существу взяли на себя миссию имперостроительства.
В современном массовом сознании утвердился стереотип о большевиках, как демонической силе низвергателей русской монархии. Но надо напомнить, что царя свергла либерально-капиталистическая кадетско-октябристская революция, в которой большевики не играли сколько бы то ни было заметной роли. Инициированная Временным правительством Чрезвычайная следственная комиссия подготавливала судебный процесс о государственной измене Николая II. Волна репрессий против лидеров право-монархического движения прокатился по стране еще в дооктябрьский период. Особой доблестью среди активных представителей «революционных масс» считалось убить полицейского или черносотенца. На волне Февральской революции было убито 4 тыс. служащих Охранного отделения. Под арестом оказываются общественные деятели право-монархического направления: А.И. Дубровин, Н.М. Юскевич-Красовский, Н.Н. Тиханович-Савицкий, И.Г. Щегловитов, Н.А. Маклаков и др. В качестве общественной альтернативы царю в последние годы существования монархии рассматривались отнюдь ни Ленин или Троцкий, а думские лидеры – П.Н. Милюков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. И если уж искать ответственных в гибели империи, то в большей степени, чем коммунисты, ее разделяют российские либералы.
Загадкой для историков является пассивность, проявленная в 1917 г. многочисленными сторонниками самодержавного правления. Ведь во время первой русской революции они активно выступили в защиту царского престола. По-видимому, народный монархизм на подсознательном психоментальном уровне в значительной мере трансформировался в большевизм. Октябрьская революция воспринималась в качестве возмездия узурпаторам царского престола. Ни что так не резало слух русского человека как прилагательное «временное», вынесенное в официальное наименование революционного правительства. Временные, промежуточные, переходные формы противоречат монархическому принципу «предвечных устоев». Временщик – это узурпатор. Временному правительству не хватало политической решимости, чтобы раз и навсегда разрешить принципиальные вопросы государственного функционирования России. Его нерешительность укрепляло народ в подозрении о нелигитимности власти «временщиков». Другое дело большевики, которые твердой рукой вершили свою политику (без оглядки на всякого рода представительства, вроде Предпарламента или Учредительного собрания). Они сразу же дали понять, что власть им принадлежит по праву (народному пониманию права, определяемого в качестве особой харизмы божественного избранничества).
Неприятие Государственной Думы восходило к архетипу отношения народа к Думе боярской. Старинный идеомиф, о том, что бояре-крамольники изводят царя – народного радетеля, экстраполировался в контекст политической конъюнктуры Февральской революции. Министры Временного правительства – это думские бояре- узурпаторы, низложившие царя. За такими политическими декорациями как Директория угадывался образ «семибоярщины». Переезд А.Ф. Керенского в царский дворец, где он работал в кабинете и спал в опочивальне Александра III, укрепляли народ в правильности его догадки. Муссировались слухи, будто бы председатель Временного правительства даже примерял на себя тайно царскую корону и усаживался на престол. Большевистская же революция воспринималась через призму архетипа покончившего с семибоярщиной «народного ополчения». Оставалось в соответствии со сценарием смутного времени утвердить нового царя. А между тем, на пост наркома по делам национальностей в первой большевистском правительстве был назначен И.В. Сталин….
Практика строительства социализма в одной стране приводила к смене ориентиров от космополитического мессианства мировой революции к имперскому конструированию. Н.А. Бердяев писал о коммунизме в качестве русской идеи: «Вместо Третьего Рима, в России удалось осуществить Третий Интернационал и на Третий Интернационал перешли многие черты Третьего Рима. Третий Интернационал есть тоже священное царство, и оно тоже основано на ортодоксальной вере. На Западе очень плохо понимают, что Третий Интернационал есть не Интернационал, а русская национальная идея. Это есть трансформация русского мессианизма. Западные коммунисты, примыкающие к Третьему Интернационалу, играют унизительную роль. Они не понимают, что присоединяясь к Третьему Интернационалу, они присоединяются к русскому народу и осуществляют его мессианское призвание… И это мессианское сознание, рабочее и пролетарское, сопровождается почти славянофильским отношением к Западу. Запад почти отождествляется с буржуазией и капитализмом. Национализация русского коммунизма, о которой все свидетельствуют, имеет своим источником тот факт, что коммунизм осуществляется лишь в одной стране, в России, и коммунистическое царство окружено буржуазными, капиталистическими государствами. Коммунистическая революция в одной стране неизбежно ведет к национализму и националистической международной политике».
Ленинская теория построения «государства нового типа», как глобализации опыта Парижской коммуны, расходилась с практикой построения советской политической системы по образцу старорежимных учреждений. Сразу же после захвата власти большевиками, некоторые из их либеральных оппонентов заговорили о термидорианской сущности октябрьского переворота и даже о его право-реакционной подоплеке. Уже 28 ноября (11 дек.) 1917 г. один из лидеров меньшевистского крыла социал-демократии А.Н. Потресов предупреждал что «идет просачивание в большевизм черносотенства». Приблизительно в то же время на страницах эсеровской газеты «Воля народа» публикуется статья В. Вьюгова с симптоматичным названием «Черносотенцы – большевики и большевики – черносотенцы», в которой автор пишет даже не о «просачивание» черносотенных элементов, а о черносотенной сущности большевизма. Политика Смольного усматривалась им в восстановлении «старого», т.е. дофевральского строя.
Этический императив сменовеховской позиции, заключавшейся в рассмотрении имперского могущества России в качестве высшей ценности, также основывался на тезисе о большевистском термидоре. Призыв «В Каноссу!» являлся следствием оценки исторической миссии большевиков, как «собирателей земли Русской». Разъясняя перед эмигрантской аудиторией консервативную трансформацию революции, С. Чахотин писал: «История заставила русскую «коммунистическую» республику, вопреки ее официальной догме, взять на себя национальное дело собирания распавшейся было России, а вместе с тем восстановления и увеличения русского международного удельного веса. Странно и неожиданно было наблюдать, как в моменты подхода большевиков к Варшаве во всех углах Европы с опаской, но и с известным уважением заговорили не о «большевиках», а… о России, о новом ее появлении на мировой арене».
Евразийцы в рассмотрении глубинных основ большевизма шли дальше сменовеховцев, усматривая в русской революции не просто антифевральский термидор, а отрицание всего петербургского периода отечественной истории, обращение к основам почвенной самобытности. Таким образом, в евразийской интерпретации большевизм представал как не осознающее смысл своей исторической миссии движение «консервативной революции».
Историографический стереотип, о том, что все без исключения черносотенные монархисты оказались в стане непримиримых противников советской власти нуждается в пересмотре. В этом плане показательно отношение к большевикам одного из идеологов черносотенства Б. Н. Никольского. Уже в 1918 г. он обнаруживал в большевизме бессознательный монархизм. «В активной политике, - писал адепт право-монархической идеи в октябре 1918 г., - они с нескудеющею энергиею занимаются самоубийственным для них разрушением России, одновременно с тем выполняя всю закладку объединительной политики по нашей, русской патриотической программе, созидая вопреки своей воле и мысли, новый фундамент для того, что сами разрушают… Разрушение исторически неизбежно, необходимо: не оживет, аще не умрет… Ни лицемерия, ни коварства в этом смысле в них нет: они поистине орудия исторической неизбежности… лучшие в их среде сами это чувствуют как кошмар, как мурашки по спине, боясь в этом сознаться себе самим; с другой стороны в этом их Немезида; несите тяготы власти, захватив власть! Знайте шапку Мономаха!…». Б.В. Никольский указывал, что враги у черносотенцев и большевиков общие – это «эсеры, кадеты и до октябристов включительно». Конечно, он понимал невозможность скорого восстановления правильного монархического правления большевиками. Однако им предсказывалось утверждение красного имперского цезаризма.
Подлинным революционером являлся ни В.И. Ленин, а П.А. Столыпин. Столыпинские реформы представляли собой ни что иное, как попытку осуществления цивилизационной трансформации. Модель аграрных отношений Прибалтийского края автоматически переносилась на российскую почву, для которой она была не приемлема как по ментальным, так и по природно-климатическим характеристикам. Парадигма большевистской коллективизации, вопреки ее же собственному идеологическому обрамлению, имело миссию цивилизационного отторжения столыпинских модернистских инноваций. Не случайно, что автор дефиниции «военный коммунизм» А.А. Богданов связывал ее с политикой царского правительства. То, что впоследствии данным понятием стали обозначать систему чрезвычайных мер большевиков эпохи Гражданской войны, свидетельствует о сущностном единстве царского и ленинского коммунизма.
Не противоречит тезису об имперостроительской сущности большевизма и пресловутая теория о немецком финансировании Октябрьской революции. Симптоматично, что в сотрудничестве с немцами Временное правительство обвиняло равно как Ленина, так и Николая II. Не следует ли понимать, что они в таком случае являлись союзниками? Российская империя во время первой мировой войны парадоксальным образом оказалась в союзе с чужеродными ей по идеологии и политической организации государствами. Напротив, в стане противников были режимы, сходные по своей природе с российским самодержавием. Пропаганда воюющих государств утверждала, что война идет не только за территории, но и за торжество собственных политических принципов, соответственно, либерально-демократических для стран Антанты и право-монархических для Четверного союза. Для России же война в идеологическом отношении являлась абсурдной. Российская Империя оказалась волею исторических судеб не в том лагере, в котором она, казалось бы, должна пребывать в силу своих политических форм и цивилизационного содержания. По-видимому, осознание этого по истечению нескольких лет военных действий стало приходить к Николаю II. Германский континентальный вектор внешнеполитической ориентации большевиков в большей степени отвечал евразийской сущности российского имперостроительства, чем атлантистская линия «Антанты».
Индикатором евразийской сущности новой власти стала советско-польская война. Большевики воевали с поляками ни как с классовыми антагонистами, а национальными историческими врагами России. Белые генералы оказывались в одном лагере с польскими сепаратистами. Ни «нэповский термидор», а именно война большевиков с Польшей породила, по всей видимости, сменовеховство. «Их армия, - писал В.В. Шульгин, - била поляков, как поляков. И именно за то, что они отхватили чисто русские области».
В пропаганде среди красноармейцев большевики апеллировали к патриотическим чувством русского человека. Л.Д. Троцкий в одной из прокламаций по Красной Армии заявлял, что «союзники» собираются превратить Россию в британскую колонию. Со страниц «Правды» Л.Д Троцкий провозглашал: «Большевизм национальнее монархической и иной эмиграции. Буденный национальнее Врангеля». Даже великий князь Александр Михайлович Романов признавал, что имперскую миссию во время Гражданской войны взяли на себя большевики.
Естественно, что среди офицерского корпуса существовало и имперское крыло. По-видимому, многие из патриотически-мыслящих офицеров перешли на сторону большевиков. На службе в Красную Армию добровольно переходит легендарный командующий первой мировой войны генерал А.А. Брусилов. По словам В.В. Шульгина, «одних офицеров Генерального штаба чуть ли не половина осталась у большевиков. А сколько там было рядового офицерства, никто не знает, но много». Согласно расчетам Г.А. Кавтарадзе, в Красную Армию перешло примерно 30 % состава российского офицерского корпуса (33% офицеров Генерального штаба). Учитывая, что другие 30 % оказались после 1917 г. вообще вне какой-либо армейской службы, то получается, что численность бывших царских офицеров среди белых и красных сопоставима. Причем, убедившись в псевдомонархизме белой армии, многие из офицеров ее довольно быстро покидали, в т.ч и переходя на сторону красных. Всего из Белой армии в Красную за время Гражданской войны перешло 14390 офицеров, т.е каждый седьмой.
Наиболее ценны признания исторической правоты большевизма, исходящие от его противников. Выводы монархиста В.В. Шульгина по осмыслению опыта Октябрьской революции, гласили о том, что именно «большевики 1) восстанавливают военное могущество России; 2) восстанавливают границы российской державы до ее естественных пределов; 3) подготавливают пришествие самодержца всероссийского».
Семнадцатый год явился апогеем процесса западнической модернизации. В осуществлении модернизационных трансформаций парадоксальным образом совпадали усилия правительственных кругов и революционного подполья. Но этот апогей пришелся не на Октябрь, а на Февраль. Дальнейший ход общественного развития определялся уже логикой цивилизационного отторжения. Миссия осуществления данного поворота выпала на большевиков. Могла выпасть и на кого-то другого, к примеру, Л.Г. Корнилова. Сами большевики саморепрезентовали себя совершенно иначе. Но логика истории заставляла их неосознанно служить своим высшим задачам.
Цивилизационная инверсия не была одномоментной. Длительное время под маркером единой партии боролись большевики – западники с большевиками - славянофилами. Тридцать седьмой год явился логическим исходом того процесса, направление которого было заложено в октябре семнадцатого. Под новой семиотической оболочкой исподволь восстанавливалась старорежимная система.
В.Э.Багдасарян, д.и.н, профессор
Работа выполнена при поддержке Совета по грантам президента Российской Федерации, грант МД - 3647.2006.6.