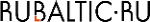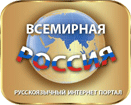Академик Борис Литвинов: "Полвека в зоне и "в законе"
Секреты советской ядерной программы
Борис Литвинов – академик РАН, заместитель научного руководителя и главный конструктор Российского Федерального ядерного центра ВНИИ технической физики (г. Снежинск). Главным направлением его научной деятельности стала прикладная физика, создание новых конструкций взрывных веществ большой мощности. Ровно полвека назад он попал в самый секретный "оружейный цех" страны Арзамас-16, причем "с благословения" самого Игоря Курчатова. В тридцать два года Литвинов стал главным конструктором Российского Федерального Ядерного Центра Технической Физики Челябинск-70 (г. Снежинск). С именем академика Литвинова связывают научные разработки проведения ядерных взрывов для нужд народного хозяйства и создание программы по защите Земли от опасных космических объектов, но все-таки основной своей специальностью он считает создание ядерного оружия.– Борис Васильевич, как получилось, что ядерное оружие стало Вашей профессией? Что определило выбор?
– Тому предшествовала целая цепь событий: война, эвакуация… Мы жили в Крыму, в Симферополе. Папа был работником НКВД – в тридцать восьмом он умер от туберкулеза, мне тогда было девять лет – а мама перед войной была назначена начальником секретного отдела Наркомата. Началась война, и мы всей семьей со всем скарбом попали в Петропавловск, на север Казахстана. Нас поселили в маленькой комнатушке при "красном уголке". Помню, там стоял шкаф, набитый книгами, и мне разрешили ими пользоваться. Журналы, которые я там увидел, меня поразили. Это были какие-то полутехнические, популярные журналы, типа "Техника молодежи". Это давало повод для развития фантазии. Десятый класс я кончал уже в Симферополе. В Московский механический институт (сейчас это МИФИ) на инженерно-физический факультет я довольно легко поступил, хотя конкурс был огромный. Как раз началась массовая демобилизация – сорок шестой, сорок седьмой годы – армию покидали молодые ребята, фронтовики. Они среди нас, пацанов, очень выделялись: что, как говорится, на нем, то все и его.
– Какой Вам запомнилась послевоенная Москва, и это время?
– Да уж… Как в фильме про "черную кошку"…"Место встречи изменить нельзя". Помню, мы с приятелем пошли покупать ему брюни – в районе Рижского вокзала была самая большая барахолка – ну, купили мы их довольно быстро, а когда принесли в общежитие, развернули – а там одна штанина. Хотя он мерил. При нем заворачивали.
– Но Вы в то время знали, что будете заниматься ядерным оружием, представляли на кого Вас готовят?
– Я просто учился. А про атомную бомбу мы в то время и слыхом не слыхивали, даже в сорок девятом году о том, что что-то там взорвали, разговоров не велось. Институт давал очень сильное образование, уникальный был и педагогический состав. Достаточно сказать, что в то время там преподавали и Тамм, и Арцимович, и Кикоин, и Тихонов. Самарский только начинал, он вел семинарские занятия, потому что был еще слишком молодой. Учились, и никаких разговоров о бомбах не было. Более того, мы уезжали в пятьдесят первом году на практику, на "Маяк", и не знали, куда мы едим, хотя у нас в группе учился сын директора "Маяка" Володя Музруков.
– Борис Васильевич, Вы еще студентом познакомились с Курчатовым. Как это было, какую роль он сыграл в Вашей судьбе?
– Я с ним познакомился в пятьдесят первом году, как раз во время практики на "Маяке". Первое впечатление было очень яркое, оно так на всю жизнь и осталось. Вдруг – распахивается дверь, и громким голосом кто-то говорит: "Ну, Борис-Глеб, где ты прячешься от меня? Вот я тебе!..". Это пришел Курчатов. Он был шумный человек. Большой, громогласный. Вот его изображение скульптурное – это копия Курчатова. Он производил впечатление, на меня лично, этакого золотопромышленника. Сибирского купца-золотопромышленника. Типаж очень яркий. Вот, если бы он играл в "Приваловских миллионах", был бы там самым ярким артистом. Приехали, помню, и три дня мы бездельничали, – никто ничего… Мы и Володю спрашивали: "Ну, когда мы начнем? Узнай у отца. Вдруг неожиданно – шум, гам, – оказывается, приехал Курчатов. Спрашивает у Музрукова: "А где студенты? Те двенадцать человек". А тот: "Какие студенты!" Там в это время новый реактор пускали – третий по счету, и он туго очень шел – а Курчатов приехал на него посмотреть, – печку ураново-плутониевую надо было доводить до кондиции, вот он и потребовал: давай студентов. Он с нами, провел около трех часов, – агитировал, короче. А нас нечего было агитировать, мы уже сами для себя все решили. Мы были первыми, кого послали на "Маяк", первыми, кого он хотел начать готовить как бы целенаправленно, чтобы молодые поступали непосредственно на производство.
Потом мы вернулись в столицу, закончили пятый курс. Нам не говорили, чем мы будем заниматься, но по тому курсу, который нам читали, можно было понять, что из нас готовят проектировщиков ядерных реакторов. Мой друг Юра Косаганов записал меня в какую-то группу новую, по какой-то новой специальности, по какой именно наш декан не говорил, он сказал только: "единственной", "вы поедите делать диплом к самому Харитону". Кто такой Харитон мы не знали, и никто нам не объяснил. Когда мы пришли за документами, на Цветной бульвар и сказали, что мы едем к Харитону, на нас руками замахали: "Забудьте это имя, вы отправляетесь в "почтовый ящик 215" и никаких (!) Харитонов"… Мол, кто вам сказал такую глупость.
Когда мы приехали на работу в Арзамас-16, нас там очень здорово встретили. Меня назначили старшим лаборантом, в мое распоряжение выделили каземат, установку, аппараты, и после определенного курса, мне дали разрешение на самостоятельное проведение взрывных работ. Там за городом был полигон. При этом мы не задавали лишних вопросов, мы делали то, что от нас требовали.
Работу я закончил в срок, но меня попросили остаться, потому что результаты моей дипломной входили в цикл разработок по созданию термоядерной бомбы и были отмечены в сводном отчете. Это была "тридцать седьмая" (РДС-37), настоящая водородная бомба. Первая – "шестерка", детище Сахарова, а эта была коллективная. Мое участие в общем деле сводилось к тому, что я исследовал, как взрывчатые материалы после взрыва распределяются вокруг центрального металлического узла – где плотно, где неплотно. Я придумал методику, как лучше взрывать. Выполнил, но возникла необходимость эти работы продолжить. Ребята все в апреле защитились, а я еще до июня работал. Защитился. Приехал в Симферополь, где моя избранница завершала свою учебу в мединституте, и вся пикантность положения была в том, что без вызова она не могла ехать со мной на "объект", в Арзамас-16. Кончилось все, слава Богу, благополучно: мы с ней отправились в Москву, в Министерство здравоохранения, – в конце концов добились и для нее направления.
– Вы с детства с ней дружили, ведь Вы оба из Симферополя?
– Нет. Это случилось, когда я приезжал домой на каникулы. Симферополь – городок небольшой, познакомиться было не так сложно. Правда, она потом мне призналась, что обратила на меня внимание еще в школе. Хотя в то время мальчики и девочки учились отдельно, но иногда устраивались встречи с женской школой, тогда она меня впервые увидела. Я хорошо писал сочинения, и часто, чтоб покрасоваться, в стихах. На этом вечере я читал свое поэтическое сочинение, – вот так она меня и запомнила.
– Борис Васильевич, для людей Вашей профессии, как известно, "первым делом самолеты", а каким Вам запомнилось Ваше первое ядерное испытание?
– Это было в 1956 году на Семипалатинском полигоне. Заряд взорвался так, как должен, и никакого впечатления не осталось. Настоящее впечатление было в 1962 году, когда я увидел взрыв мегатонного заряда на Новой Земле. Это огромная мощность. Впечатление непередаваемое. Вы видите картину, которая происходит на расстоянии почти в сто километров. Конечно, страшно, когда земля под тобою ходит ходуном, а командный пункт находился на скале. Взрывали тогда в воздухе. Один взрыв был – туман, слякоть, дождь, – все прелести Новоземельской погоды. А другой – в ясный день 6 октября 62 года. Когда хорошая погода, лучшего места, чем Новая Земля нет. Вот после этого взрыва на приеме у Хрущева я сказал, что по идее надо членов политбюро послать на ядерный полигон.
– Рисковое предложение, и как Хрущев отреагировал?
– Он сказал: "Хорошее предложение, я, пожалуй, сам съезжу". Все засмеялись…
– Ну а в Челябинск- 70 как Вы попали в результате?
– Сначала был Арзамас-16. Мы приехали туда в пятьдесят втором году, – можно сказать: "Я пятьдесят лет живу в зоне и "в законе". Девять лет я проработал в Арзамасе и был уже заместителем начальника отделения, как вдруг мне предлагают должность главного конструктора Уральского центра – возглавить очень интересное новое направление. Это тоже было связано с созданием оружия, но речь шла о несколько другом способе организации критмассы нежели тот, которым в это время все занимались. Эту идею высказал физик Бобылев, а я ее воплощал. В июне шестьдесят первого года меня в ЦК вызвали, потом сам министр со мной беседовал. А мне ехать не хотелось, у нас все было хорошо, и жена нормально была устроена и я. Совещание в ЦК по этому вопросу состоялось – все не просто так, назначение, – это номенклатурная должность, и все на меня смотрели как на идиота, что я отказывался. А я, что самое интересное, был к тому же еще и беспартийный. Но мне сказали, все это ерунда – партийный или беспартийный, – надо значит надо.
– Борис Васильевич, это же фантастика какая-то, в тоталитарном государстве, на сверхсекретном производстве стратегического значения главным конструктором назначают беспартийного?
– Да. И я семь лет, до шестьдесят восьмого года был беспартийным и занимал эту номенклатурную должность. Но почувствовал я себя по-настоящему главным конструктором не сразу, а лет этак через семь-восемь.
– Понятно, что главный конструктор – это звучит гордо и загадочно. А в чем все-таки состояли функции и обязанности главного?
– Есть расхожее мнение, что главный конструктор все придумывает, а все остальные бегают, делают то, что он придумывает. Это негодный главный конструктор. У такого конструкторское бюро скоро развалиться. Потому что люди есть люди, они тоже хотят участвовать в процессе и им надо дать эту возможность каждому проявить себя. Но надо знать: вот этому можно верить на слово, а вот этому – надо проверить, а этого – вообще близко подпускать не надо. Комплекс взаимодействия. Главный конструктор – это человек, который организует сам процесс. Он должен знать, как работает вся система. Физики придумывают схему той же бомбы, как она устроена, конструкторы делают чертежи, экспериментаторы – опыты, а главному конструктору надо все это понимать, держать в голове, чувствовать: вот это допустимо, а вот это не допустимо, вот это требует проверки, а вот с этим можно согласиться Что-то приходилось заново придумывать, рассчитывать и решать.
– Трудно пришлось на новом месте с новым коллективом?
– Самые трудные, конечно, были шестидесятые годы, а точнее – шестьдесят первый. Тогда у нас вообще неудачные были испытания. Я очень неуютно себя чувствовал: сами понимаете, приехал молодой главный конструктор – мне тогда было 32 года – и все провалилось. Но те ошибки, которые были, – это поиск направлений. Вот вы хотите что-то сделать, и ничего не получается. Почему? Начинают люди думать. Рождается открытие. Коллектив был изумительный. Дружественный. Один говорит одно, другой добавляет, еще, еще… Это как раз и называется "мозговой атакой". Нашим научным руководителем был Евгений Иванович Забабахин, большой ученый, на много старше меня, но, тем не менее, он очень уважительно ко мне относился. Иногда он так и говорил: этого требует Борис Васильевич, я правда не понимаю, зачем он требует, но ему видней.
– Забабахин был к тому времени признанным маститым ученым, вы же, хоть и руководителем, но все-таки молодым, начинающим, – какие у Вас с ним сложились отношения вне работы?
– У нас с Евгением Ивановичем были самые добрые отношения. Мы и на природу часто вместе выезжали. Ездили с ним охотиться. Он был страстным охотником. Но настал момент, когда он сказал: "Все, я больше не охочусь – это преступление. Убивать зверей – преступление". Я тоже, помню, зайца подстрелил. Не сразу – ранил сначала, а он закричал, как человек… "Тьфу ты, – сказал я себе, – больше я не хожу! Не нужны мне эти зайцы, ничего не нужно", – и больше с тех пор не охочусь.
– Борис Васильевич, возможно, это потрясение послужило поводом к тому, что вы переключили свой профессиональный интерес с военного на мирное направление? Ведь с Вашим именем связывают идею использования ядерных взрывов для народнохозяйственных целей?
– Зайцы тут не при чем. Да и сама идея тоже не моя, я просто присоединился к ней. После 1949 года Харитону и Франк-Каменецкому было поручено этой проблемой заняться. Но задача была поставлена некорректно. Если Вы прочитаете сообщение ТАСС, то там не понятно вообще о чем идет речь – непонятно вообще, сделали мы ядерный взрыв или нет. Славский – наш бывший министр в шестидесятом году неоднократно собирал по этому поводу совещания. Была большая записка Забабахина на эту тему. Так что сама идея ядерный взрыв применить для нужд промышленности – вещь очевидная. Как когда-то было естественно распространение пороха в горнорудной промышленности, и здесь тот же путь.. И первое, с чего все началось – было создание водохранилищ в Казахстане, где существовала проблема с водой.
– Но что при ядерном взрыве происходило с водой, она же наверняка становилась радиоактивной?
– Все не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Если взрыв происходит с выбросом, то часть активности действительно выбрасывается, но потом все это заиливается и погружается. Наш министр Славский через три года уже купался там. Он здоровый был мужик. По-моему, никакая радиация его не могла пробить.
– А он в воронке купался?
– В воронке, конечно. И я купался там тоже, в воронке. Там холодная вода и глубоко - 80 метров где-то.
– Радиация не пугала?
– Надо же знать, сколько чего. Все надо знать. При каких дозах можно находиться и сколько времени. В той воронке, где-то было 50 рентген. Ну, мы пробыли там 20 минут. И ничего, слава Богу. Надо к этому относиться спокойно. А как люди работают с опасными бактериями? Еще хуже. А с радиацией работать гораздо проще, чем с другими видами опасности.
– Борис Васильевич, а есть ли разница между ядерными взрывами для военных целей, и теми, что ориентированы на промышленные нужды?
– Принципиальной нет. Другое дело, для мирных целей конструкторски надо было сделать специально приспособленный взрыв, в котором можно было менять мощность, температуры, опускать заряд на большие глубины. В общем, это целое инженерное решение, включающее в себя и защиту территории. То, что на больших глубинах взрывается, само себя хоронит – остекловывается в породах и там остается, а то, что идет с выбросом – другое: надо было сделать такой заряд, который бы давал минимальную наведенную и собственную активность. Вот эта работа заняла очень много времени, и мы закончили ее в 74-м году.
– Но почему все-таки идея эта не получила дальнейшего практического развития ни у нас, ни в США, где также проводились параллельные с нами работы в районе Панамского канала?
– Вот говорят, американцы умные… И что же? Известно было месторождение с очень слабой отдачей газа. Но сделали они работу по интенсификации добычи. Решили взорвать там два заряда. Но сразу же после этих работ – еще газ не начали использовать – в рекламе конкурирующей фирмы появилась такая приписочка: "Наш газ чист от радиации". С трудом им удалось реализовать на рынке свой газ, хотя он был совершенно чист от радиации. То есть в условиях такой конкуренции применять ядерные взрывы очень и очень не просто. Но этот опыт наверняка переняли китайцы, у них есть проблемы, которые по-другому не решить. Вода, например – огромные районы прекрасной земли без воды. А рядом, в Индии, вода все заливает… А американцы от этого метода отказались, они нашли другой способ жизни – паразитировать на теле всего мирового сообщества.
– Ну а что можно сказать о перспективах у нас в стране, ведь эксплуатация месторождения, полученного при помощи ядерного взрыва имеет свои специфические особенности?
– До сих пор добывается нефть – это Гежское месторождение в Пермской области. Конечно, эксплуатация такого месторождения, она сложнее, и нефть соответственно дороже. Там была пусть незначительная, но радиоактивность, а у радиоактивности есть такое гадкое качество – она накапливается. И время от времени надо очищать. Вот и выходит дороже. Зато апатитовую руду добывали – есть две скважины в Башкирии – там вообще вся руда получилась чистая. Но чтоб в это верили, работать надо с общественностью, как французы, например. Они на атомные станции приводят детей, старушек, проводят там экскурсии, а такой мощной атомной энергетики, как во Франции нет нигде в мире.
– Существует такая теория, что с помощью ядерного взрыва якобы можно организовать землетрясение в заданной местности, как вы к этому относитесь?
– Это ерунда. На самом деле, на пути волн возникнет слишком много поглощающих препятствий. А сказки о каналах волновых, которые вот здесь начинаются, а там кончаются – научных оснований для этого никаких нет. Есть другое – когда вы производите взрыв, то те напряжения, которые накопились в земной коре, они снимаются, колебания как бы рассасываются.
– Выходит в сейсмоопасных районах надо проводить ядерные испытания?
– Да, но этот вопрос пока что не до конца изучен. А на практике все тогда только можно применять, когда ты знаешь всесторонний результат и можешь оценить последствия. У нас в Краматорске Донецкой области делали взрыв в году 68-69-м. Проверялась сама идея снятия напряжений, исследовалась причина выброса? Дело в том, что проход в угольной шахте, бывает насыщен газом. Там был проведен очень маломощный взрыв, зато эффект был какой, что в этом месте в течение десяти с лишним лет не было выбросов и работы велись безопасно. Это надо было разрабатывать и дальше, но такие работы даже в советское время нельзя было проводить, не согласовав с местными партийными органами. А теперь, пока действует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, мы не можем проводить испытания даже в научных целях. Хотя сам Договор, с точки зрения специалистов, написан глупо – он запрещает любые ядерные взрывы. Но если разделили один атом – это уже будет ядерный взрыв.
– Борис Васильевич, насколько известно, Вы принимали участие в разработке программы по защите Земли от астероидов?
– Это программа перешла в разряд совершенно для меня не интересный. Я как инженер считаю, что надо конструктивно решать, а не собирать бесконечные конференции, обсуждать, как мы будем делать то, если будет это. Это все ерунда Я в таких работах участие не принимаю. Что же касается самой идеи использовать ядерное оружие против опасных космических объектов, то это не мое, а коллективное творчество, и это вполне реальная вещь. Можно использовать то самое ядерное оружие, которое нацелено друг против друга, для этих целей.
– Это будет заодно и утилизация?
– Конечно. И утилизация тоже. Как пожарные команды стоят. Загорелось – побежали тушить. Должна быть глобальная сеть построена. То есть это достаточно серьезный проект, дорогой проект. Но как говорил один американец, который все доказывал, что пора на Луне строить города, в ответ на возражения, во сколько миллиардов это обойдется, он говорил так: "А вы посчитайте сколько стоит оружие, которое мы нацелили друг на друга. Оно стоит намного дороже, чем создать на Луне город с населением в сто тысяч".
– Сама антиастероидная программа была совместная, наша с американцами?
– Нет, только наша, наша "доморощенная" программа начала девяностых. Правда, исследования возможности предотвращения астероидной опасности начались в Соединенных Штатах, но НАСА к этому отнеслось очень прохладно. И вот когда мы в 1994 году собрали в Снежинске Международную конференцию по защите Земли от опасных космических объектов, к нам в гости приехал сам Эдвард Теллер – крестный отец американской водородной бомбы, несмотря на то, что был в то время уже очень серьезно болен. Приехал и директор НАСА. И там такой спор у нихвозник, что пришлось нам их растаскивать. Теллера мы очень поддерживали. Он, конечно, на нас тоже очень сильное впечатление произвел: такой – "кабан-секач" – накинулась на него куча псов, он их раскидывает… Он прекрасное впечатление о себе оставил. И ему страшно у нас понравилось. Люди понравились, беседы. Он признал, что это очень важное направление для Земли. Вот совсем недавно пролетел астероид очень опасных размеров – кусочек где-то около пяти километров – его заметили, когда он удалялся. Если бы он вошел в плотные слои атмосферы, то взрыв был бы порядка тысячи тонн…
– А мы способны были его отбить?
– Да, такой можно отбить. Все дело зависит от того, когда вы его обнаружили. Но на всякие проекты нужны деньги, а на большие проекты большие.
– Прошлый век вошел в историю как век освоения космоса и атомной энергии, а в 21-м веке какие перспективы у людей вашей профессии, как вы думаете?
– Черт его знает, какие… Оружие будет. К сожалению. Все время идет подмена понятий, и разговоры о гуманном оружии – все обман, оружие не может быть гуманным. К примеру, один из видов гуманного оружия – сделать человека невменяемым. Ну, конечно, он будет живой. Но оттого, что он будет живой идиот, – ему не легче. Вот говорят много о так называемом высокоточном оружии. В Афганистане не точным оружием талибов одолели, а силам альянса. Когда надо было талибов из пещер выгонять, не оружие применяли, а людей. Потом, точное оружие очень дорого стоит – оно на порядки дороже атомного. Представьте себе начало ХХ века, никто не мог себе представить, что на самом деле будет. Я думаю, что подлинный прорыв должен быть у биологов, и для этого есть основания. Но всякое научное достижение и во все времена оно двояко: оно может и пользу принести, и вред.