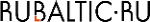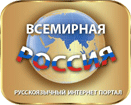Белый Лис
"Поступал так, как подсказывала совесть"...
Эдуард Шеварднадзе — о тайных посиделках с Горбачевым, об иностранных делах, о твердости Ганди и жесткости Тэтчер, об анекдоте для Рейгана, цитате из Сталина, а также о том, что он получил за объединение ГерманииМы не виделись с ноября 2003 года, с момента добровольно-принудительной отставки Эдуарда Амвросиевича с поста президента Грузии после «революции роз». За минувшие семь с небольшим лет в резиденции бывшего главы государства, расположенной в районе Крцаниси неподалеку от центра Тбилиси, почти ничего не изменилось. Разве что в саду рядом со зданием, где коротает дни и ночи Белый Лис, появился мемориал: гранитная стена с прорубленным в центре крестом и клумба с живыми цветами. Под каменной плитой покоится прах ушедшей из жизни в октябре 2004-го Нанули Цагарейшвили-Шеварднадзе, верной спутницы Эдуарда Амвросиевича...
— Когда вы в последний раз в Москве были, господин президент?
— Дайте подумать... Наверное, году в 2003-м.
— В свою квартиру в Плотниковом переулке заходили?
— Что вы! Она давно не моя. Но если вспоминать, как жилось там, должен сказать, что моменты были разные, но все же больше светлого, положительного. Квартира находится на Старом Арбате, в пяти минутах ходьбы от Смоленской площади и Министерства иностранных дел, которое я возглавил 2 июля 1985 года. Назначение случилось совершенно неожиданно для меня. Сейчас объясню... Дело в том, что я долго дружил с Горбачевым. Еще с момента, когда он был первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС, а я руководил ЦК компартии Грузии. Михаил Сергеевич любил отдыхать в Абхазии, регулярно приезжал в Пицунду, и мы там встречались. Говорили на разные темы, делились впечатлениями. Именно так в конце 1979 года из выпуска радионовостей мы узнали о решении советского руководства ввести войска в Афганистан. Помню, я сильно разозлился, что даже с членами ЦК не посчитали нужным посоветоваться по столь важному вопросу, и сказал Горбачеву: «Система прогнила сверху донизу, пора ее менять, пока сама не рухнула». Михаил Сергеевич в тот момент промолчал, но позже, после того как в марте 85‑го его выбрали генеральным секретарем ЦК, неоднократно цитировал мои слова. Он уже не сомневался в необходимости решительных перемен. Через полтора месяца после своего избрания позвонил мне в Тбилиси: «Эдуард, ты должен приехать в Москву». Я спросил: «В чем дело?» Горбачев не стал по телефону объяснять детали, ответил коротко: «Есть мысль, надо обсудить». Грузия в ту пору считалась одной из передовых советских республик, у нас проводились смелые эксперименты, приносившие положительные результаты. Предсовмина СССР Николай Тихонов даже издал специальное распоряжение о распространении грузинского опыта на другие регионы страны. Я решил, речь пойдет об этом...
Словом, прилетаю в Москву, еду к Горбачеву на Старую площадь. Он говорит: «Мы посоветовались с товарищами и намерены предложить тебе пост секретаря ЦК КПСС по международным вопросам. Второй вариант — министр иностранных дел СССР. Можешь выбирать». А как тут выберешь, если не готовился к подобному повороту событий? Попробовал отказаться, даже доводы приводил, на мой взгляд, совершенно разумные, но Михаил Сергеевич и слушать не стал: мол, тема закрыта, вопрос решен. Во главе внешнеполитического ведомства ему требовался проверенный человек, единомышленник, соратник. Видимо, я подходил на эту роль. Через день-другой состоялось заседание политбюро ЦК, где Горбачев объявил, что есть мнение рекомендовать Шеварднадзе в МИД, а Громыко назначить председателем Президиума Верховного Совета СССР. В государственной иерархии формально это был третий пост после генсека и главы правительства, вроде бы повышение для Громыко, но ведь Андрей Андреевич отработал в МИДе вечность, в должности министра провел двадцать восемь лет, получив за неуступчивость на переговорах прозвище Мистер Нет! Человек очень грамотный, подготовленный, авторитетный, по существу создатель советской дипломатической школы. И вдруг я... Маленькая лодка рядом с огромным крейсером! Правда, эта лодка могла оказаться атомной...
У Громыко был собственный кандидат на пост преемника, один из его замов, но Горбачев убедил, что в такой переломный момент в МИДе нужен не столько дипломат, сколько политик, который изнутри понимает, что означают перестройка, ускорение, обновление... Андрей Андреевич согласился.
— Что ему оставалось?
— Не скажу, будто назначение меня тоже обрадовало. Я отлично чувствовал себя в Грузии, никуда не собирался уезжать. И Нанули все устраивало дома, в Тбилиси. Однако в КПСС не принято было спорить: раз решение принято, надо исполнять. Даже сегодня неловко сознаваться, но в 1985 году я не представлял, где находится здание МИДа, никогда там прежде не бывал. Утром приехал водитель, чтобы везти на работу, а я не знаю, какой адрес называть. Хорошо, человек опытный попался, сам сообразил. И смех, и грех! Ладно, добрались до места, выхожу из машины. Ни сопровождающего, ни встречающего! Огромный дом, почти тридцать этажей. Где тут искать кабинет министра? Подсказали: надо подняться на седьмой этаж. Открываю дверь, из-за стола встают восемь человек, мои замы. Смотрят выжидающе. Знакомлюсь, начинаем разговор. Вижу, в глазах не исчезает недоумение: этот грузин наш новый министр? Честно говорю собравшимся, что понятия не имею о дипломатии, тем не менее работать придется вместе. И добавляю: «Надеюсь на вас». Действительно, через короткое время мы нашли общий язык.
Времени на раскачку совсем не было. Буквально через три недели после вступления в должность я уже летел в столицу Финляндии на торжественное заседание по случаю десятилетия подписания Хельсинкского заключительного акта. Мне предстояло выступить с речью о безопасности и сотрудничестве в Европе, сделать заявление от имени Советского Союза. А о чем говорить? Выручил старый и верный помощник Степанов-Мамаладзе, которого я взял с собой из Тбилиси. Теймураз был как государственным функционером, так и одаренным журналистом, хотя в дипломатии разбирался немногим лучше моего. Тезисы доклада подготовили сотрудники аппарата МИДа, а над текстом поработал Темо. Вернувшись в Москву, я попросил предоставить еще одного помощника. Мне рекомендовали привлечь к работе Сергея Тарасенко, сотрудника американского отдела. Куратор направления высокого ценил Сергея, даже министру не хотел его отдавать! Пришлось проявить настойчивость... Тарасенко чрезвычайно образованный человек! Мы продолжили совместную работу и после ухода из МИДа в 1990 году в созданной чуть позже Внешнеполитической ассоциации. Потом, в марте 92‑го, Теймураз и Сергей приехали со мной в Тбилиси, но спустя какое-то время оба вернулись в Москву. Сначала Тарасенко, потом Степанов-Мамаладзе. С моего ведома и разрешения все годы, пока мы были вместе, они вели записи моих бесед, в том числе и телефонных. Без этого я не сумел бы подготовить к изданию мемуары «Когда рухнул железный занавес», которые, знаю, переведены на русский язык и изданы в Москве. Сам едва ли восстановил бы все по памяти, слишком быстро менялись тогда события. Как в калейдоскопе!
Возвращаясь к боевому крещению, могу сказать, что именно в Хельсинки я познакомился с министром иностранных дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером, который в будущем стал моим большим другом. Там же три с лишним часа вместо первоначально запланированных двадцати минут беседовал с госсекретарем США Джорджем Шульцем. Мы успели обсудить все ключевые вопросы современности. Когда пришла пора прощаться, я протянул собеседнику руку и сказал: «На вашей стороне — опыт, на нашей — правда». Шульц удивленно посмотрел на меня и произнес: «Подумаю над этими словами. На следующей встрече отвечу...»
— У вас ведь был определенный дипломатический опыт и до прихода в МИД, Эдуард Амвросиевич. Достаточно сказать, что еще в 70-е годы вы принимали в Тбилиси Индиру Ганди...
— Это другое! Обычный протокольный визит. Кстати, Индира дважды приезжала в Грузию. В первый раз остановилась по дороге из Москвы в Дели. Поздно вечером прилетела, поселилась в гостинице, из номера не выходила, а утром отправилась домой, в Индию. Нам даже побеседовать не удалось. Второй приезд оказался более продолжительным. Индиру сопровождали члены ее семьи. В парке на горе Мтацминда, откуда виден весь Тбилиси, в честь дорогих гостей мы устроили настоящее грузинское застолье, угощали от души. Засиделись допоздна, о делах говорили мало, пили вино, пели песни... Вообще-то индийцы спиртное не очень употребляют, но по такому случаю попробовали. Хвалили! На следующий день я провожал Ганди в аэропорту...
Позже мы виделись еще раз: в 1982 году я прилетал в Дели во главе официальной делегации на съезд индийской компартии. Коммунисты не пользовались у жителей страны особой любовью, не являлись влиятельной политической силой, но СССР считал долгом поддерживать братские партии. Словом, я принял участие в работе съезда и уже собирался возвращаться в Грузию, когда через советского посла получил приглашение на беседу к госпоже премьер-министру. Разве можно отказаться, если зовет глава государства? К тому же красивая женщина! Встречу назначили на десять часов утра в день отлета. Когда я уже выезжал в резиденцию Ганди, в посольство позвонили и, извинившись, передали, что разговор смещается на более позднее время. Что тут скажешь? Делать нечего, надо ждать. Проходит час, полтора — тишина. Естественно, я занервничал. Мне ведь улетать! Наконец звонок, объясняющий причину задержки. Оказывается, в то утро в семье премьер-министра произошла шумная ссора. Невестка Индиры, вдова младшего сына, погибшего в авиакатастрофе, неожиданно со скандалом ушла из дома свекрови. Это вызвало бурную реакцию окружающих. Ганди потребовалось время, чтобы как-то успокоиться, прийти в чувство. Узнав об этих обстоятельствах, я предложил отменить встречу. Но Индира показала себя настоящим политиком, человеком железной воли. Она ждала меня на пороге резиденции, радушно приветствовала, пригласила в дом. За час, в течение которого продолжался разговор, даже виду не подала, будто чем-то огорчена или расстроена. Мы свободно беседовали на разные темы, вспомнили визиты Ганди в Тбилиси и Москву. Я несколько раз порывался закончить аудиенцию, но хозяйка не отпускала, задавала вопросы, сама что-то рассказывала, шутила... Из Дели я улетал с надеждой на будущие встречи. Мы стали обмениваться поздравлениями к Новому году и национальным праздникам. Несложно представить мое состояние, когда в октябре 1984-го пришло известие, что Индиру расстреляли ее же телохранители...
— Ганди можно сравнить с Тэтчер?
— Они совершенно разные. Маргарет — тоже очень умная женщина, но она... как сказать?..
— Жесткая?
— Да-да, именно! Вы знаете, что советские лидеры долго не приезжали в Лондон? Даже на уровне министра иностранных дел. Громыко за десятилетия руководства МИДом ни разу не был в Великобритании с официальным визитом. Первым среди высших чинов СССР в Англию пожаловал Горбачев. Это случилось в 1984 году, еще до избрания Михаила Сергеевича генсеком ЦК. Тогда Тэтчер и сказала знаменитую фразу: мол, этому человеку можно верить. Позже, в 1989 году, мы с Горбачевым возвращались с Кубы и сделали остановку в Лондоне. Премьер-министр пригласила нас в резиденцию на Даунинг-стрит. Тэтчер в любой компании всегда старалась взять бразды правления в свои руки, показать, кто настоящий лидер. Вот и в тот раз сразу перешла в атаку, став предъявлять Советскому Союзу серьезные претензии по разным вопросам. Михаил Сергеевич не уступал, отвечал на каждый выпад. Завязался спор. Я решил не вмешиваться, рассудив, что Тэтчер и Горбачев сами разберутся, без меня. А мой первый официальный визит в Лондон в ранге министра иностранных дел состоялся еще в июле 86-го и продолжался три дня. После окончания переговоров с английским коллегой сэром Джеффри Хау я отправился на прием к «железной леди». Она построила разговор в обычной манере, завела речь о войне в Афганистане, правах человека в СССР, последствиях аварии в Чернобыле, но внутренне я был готов к диалогу на встречных курсах. Общение шло через переводчиков. В тот раз мне помогал Павел Палажченко, специалист высочайшего класса. Он до сих пор работает в Горбачев-Фонде, написал книгу мемуаров... После назначения министром я подумывал взять преподавателя английского языка и позаниматься с ним, но быстро понял: с той нагрузкой, которая легла на мои плечи, будет не до учебы... Встреча с Тэтчер продолжалась два с лишним часа, мы обсудили множество вопросов, и к концу беседы тон стал гораздо спокойнее, а завершилось все тем, что премьер лично проводила меня до дверей резиденции, даже вышла на улицу, хотя это не предусматривалось протоколом. Журналисты, писавшие о моем визите в Лондон, расценили поступок Тэтчер как жест доброй воли.
Потом «железная леди» приезжала в Москву. Ее переговоры с Михаилом Сергеевичем проходили в доме приемов МИДа на улице Толстого. Дело продвигалось туго, сначала в беседе участвовали делегации в полном составе, потом главы государств остались наедине. Вместе с Джеффри Хау я стоял во дворе и через открытые окна особняка Саввы Морозова слышал, как Горбачев и Тэтчер что-то выговаривают друг другу на повышенных тонах. На расстоянии слов было не разобрать, но характер общения иллюзий не вызывал. Никто не желал уступать, каждый стоял на своем. Так продолжалось восемь часов! Дело закончилось подписанием меморандума и рукопожатием под объективами телекамер. Дипломатия — вечный поиск компромиссов! Спорить можно и даже нужно, но при этом важно сохранять взаимное уважение, не переходить черту...
Джон Мейджор, сменивший Маргарет Тэтчер в офисе на Даунинг-стрит, был более легким собеседником, нежели его предшественница. Когда в начале 1995 года я прилетал в Англию с официальным визитом в ранге главы парламента Грузии, Мейджор посоветовал мне съездить в лондонский Винополис. Прислушавшись к рекомендации, я посетил выставку, где увидел стенд, рассказывающий, как люди окультурили виноградную лозу. Оказывается, впервые это произошло на территории современной Грузии! Дожив до 67 лет, я и не знал, что вырос на родине мирового виноделия! Сделанное открытие приятно удивило. С тех пор еще сильнее полюбил наше вино. Особенно красное. Пью его регулярно. В разумных дозах, конечно...
— Значит, с англичанами общий язык вы, Эдуард Амвросиевич, худо-бедно нашли, а с американцами?
— В 85-м президентом США был Рейган, который, как известно, люто ненавидел Советский Союз, называл его «империей зла». Именно он выступил с планом СОИ — стратегической оборонной инициативы, предусматривавшей создание системы ПРО с элементами космического базирования. Я уже работал в МИДе, когда на заседание политбюро ЦК КПСС пригласили ведущих отечественных ученых и военных, попросив их оценить степень вероятной угрозы от СОИ. Авторитетно было заявлено, мол, ерунда, зря американцы пугают нас звездными войнами. Высшее руководство страны поверило мнению экспертов и успокоилось. А месяца полтора спустя те же ученые повторно пришли на Старую площадь и принялись извиняться, объясняя, что поторопились с выводами и все гораздо серьезнее, чем казалось изначально. Хорошо бы, дескать, дать адекватный ответ Штатам. Только вот как? Ведь грамотные люди понимали: советская экономика не выдержит нового витка гонки вооружений. Предстояло искать политические пути решения проблемы. Задача формулировалась предельно просто: любой ценой достичь компромисса с американцами. Вот на каком фоне готовились переговоры с администрацией Белого дома!
В сентябре 1985 года я полетел в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН, где присутствовал и госсекретарь США Шульц. Официально попросил его доложить Рейгану: министр иностранных дел СССР просит о встрече. Президент не жаждал меня принимать, велев уточнить темы, которые собираюсь обсудить. Шульц пояснил: дипломатический этикет требует хотя бы краткого протокольного разговора, иначе международный скандал гарантирован. Выдержав актерскую паузу, глава Белого дома согласился: о’кей, пусть кремлевский посланец приходит. Накануне весь день лил проливной дождь, но когда на следующее утро я собрался на завтрак к Рейгану, из-за облаков выглянуло солнце. Мне показалось это добрым знаком. Приехал в назначенный час, меня проводили в комнату для переговоров. Появился Рейган и с порога начал монолог. Говорил, говорил... Я слушал, не перебивая. Мы с Горбачевым еще в Москве условились: что бы ни сказал собеседник, в спор не вступать. Сижу, молчу. Не возразил даже после явной неточности, допущенной Рейганом. Не знаю, может, он специально проверял мою реакцию, испытывал терпение? Во всяком случае, расставались мы внешне вполне миролюбиво, условились, что следующая встреча пройдет в ноябре того же года с участием первых лиц с обеих сторон.
Местом переговоров была выбрана Женева. Сначала Горбачев и Рейган беседовали с глазу на глаз в присутствии переводчиков. Мы с Шульцем три часа ожидали боссов в соседнем кабинете. Наконец дверь распахнулась, я увидел выражение лица Михаила Сергеевича и сразу понял: все плохо. Ничего не объясняя, Горбачев раздраженно бросил: «Эдуард, на дачу!» Мы молча поехали на виллу, на которой остановились. Там нас встретила Раиса Максимовна, позвала обедать, спросила, как прошел разговор. Михаил Сергеевич, не ответив ей, обратился ко мне: «Пусть готовят самолет! Улетаем в Москву. С этой администрацией нельзя иметь дело!» Раиса Максимовна была умной женщиной, обладала влиянием на мужа, она все правильно поняла и поддержала меня, мы стали в два голоса убеждать, что нельзя вот так срывать переговоры, надо провести второй раунд, сделать еще попытку найти общий язык. Худой мир лучше доброй войны. Горбачев горячился, но потом успокоился и согласился с нашими доводами. На следующий день переговоры продолжились в расширенном составе, особых результатов они не дали, все ограничилось обсуждением общих тем, но, по крайней мере, лидеры не разругались, и уже это было хорошо. Мы находились в самом начале длинного пути...
Следующая встреча состоялась осенью 86-го в Рейкьявике, поскольку Рейган не хотел лететь в Москву, а Горбачев — в Вашингтон. Столица Исландии находилась на полпути между Америкой и СССР. Но сначала американский президент и туда отказывался ехать, твердил упрямо: «Мы виделись с русскими менее года назад, ни единого вопроса не сумели решить. Какой прок в новых контактах?» Рейган выговаривал мне таким тоном, словно это я не желал идти с ним на компромиссы! Пришлось пускать в ход красноречие, искать дополнительные аргументы: «Господин президент! Михаил Сергеевич предлагает встречу, значит, ему есть что сказать вам. Чем вы рискуете? При худшем варианте потеряете день-другой на переезды, но ведь может и получиться». Убедил...
Однако в Рейкьявике диалог тоже складывался трудно. Как и в Женеве, Горбачев с Рейганом провели часа три наедине. Оба вышли хмурые, друг на друга не смотрят. Перед тем как проститься, американский президент произнес: «Если бы прислушались к моим словам, дали закончить хотя бы одну мысль, возможно, мы нашли бы консенсус». До сих пор, кстати, не знаю, о чем именно речь. Горбачев тогда предложил: «Хорошо, давайте вернемся в кабинет, продолжим консультации». Рейган ответил: «Нет! Все, конец!» Сел в машину и уехал. Михаил Сергеевич будто и не расстроился из-за демарша, даже повеселел. Следом за ним мы с Александром Яковлевым пошли к автомобилям и отправились к месту, где была намечена итоговая пресс-конференция. Заходим — полный зал журналистов, все тянут руки, хотят узнать подробности. А как отвечать, что говорить? Признаться в отсутствии результатов? Неожиданно для многих Горбачев назвал встречу... интеллектуальным прорывом в советско-американских отношениях. Параллельно с нашей пресс-конференцией в другом конце Рейкьявика на американской военной базе проводил брифинг Рейган. Мы не знали, что он скажет. Обошлось без громких заявлений, но, к счастью, американцы не стали выносить сор из избы, удержались от оскорбительных выпадов в адрес советского руководства. Собравшиеся представители ведущих мировых СМИ поняли, что хотя бы не зря летели на край света...
Я семь раз участвовал в переговорах с Рейганом. Одну из первых встреч он закончил анекдотом, которые любил и знал в великом множестве. Потом это стало традицией: перед тем как попрощаться, Рейган в знак симпатии и особого отношения рассказывал новый анекдот, никогда при этом не повторяясь. И вот во время моего очередного визита в Белый дом посол СССР в Вашингтоне Анатолий Добрынин посоветовал мне ответить каким-нибудь анекдотом и поддержать тем самым разговор. Участвовать в соревновании с профессиональным, хотя и бывшим актером не хотелось, но я понимал: Добрынин абсолютно прав. Как опытный дипломат Анатолий нашел правильные слова, чтобы отрезать мне пути к отступлению: «Неужели грузин из Гурии уступит в остроумии ковбою из Иллинойса?» Я еще вяло пытался отказаться, когда, к счастью, вспомнил анекдот, услышанный перед отлетом из Москвы.
«Бог позвал к себе президентов США, СССР и премьер-министра Англии, потребовав отчета о делах земных. Первым слово взял Рейган: «Господь, я выполнил обещанное американскому народу, создал пять миллионов новых рабочих мест». Горбачев доложил: «Перестройка идет полным ходом, процесс углубляется и ускоряется». Бог удовлетворенно кивнул и обратился к Тэтчер: «А как у тебя дела, дочь моя?» Та ответила: «Все в порядке, но не это главное. Во-первых, я не твоя дочь, во-вторых, ты сидишь на моем месте!»
Когда я закончил, Рейган долго смеялся, а потом попросил повторить анекдот еще раз, приговаривая при этом: «Маргарет у меня в руках!» Он дружил с Тэтчер, но, видимо, не упускал шанс по-приятельски подшутить над ней. Прощаясь, я сказал Рейгану, что не встречал другого человека, который знал бы столько анекдотов, помнил бы их все и ни разу не повторился. Мне казалось, американскому президенту будут приятны эти слова, но он неожиданно погрустнел и задумчиво произнес: «Да, так было, но теперь с моей памятью происходит нечто странное. В мельчайших деталях помню события двадцатилетней давности, порой забывая случившееся вчера». Я не догадывался, что у Рейгана уже развивается страшная болезнь Альцгеймера...
В последний раз мы виделись в конце 90-х. В качестве президента независимой Грузии я прилетал в Штаты с рабочим визитом и решил заодно навестить в Стэнфорде моего друга Шульца. Мы поговорили о текущей политике, вспомнили прошлое, когда Джордж был госсекретарем США. Я пригласил его в Тбилиси и уже собирался уходить, как Шульц вдруг предложил: «Эдуард, не хочешь проведать Рональда? Могу отвезти к нему». Я засомневался: удобно ли без приглашения и предварительного предупреждения вторгаться в дом к человеку? Шульц успокоил: «Не беспокойся. Буду сопровождать тебя». Навстречу гостям из дома вышла Нэнси, супруга президента. Она узнала меня, обрадовалась, предложила пройти внутрь, сказала, что сейчас позовет мужа. Появился Рейган. Внешне он мало изменился, остался таким же высоким, широкоплечим, моложавым, но потом я посмотрел ему в глаза и... ничего не увидел в них. Ничего! Возникла неловкая пауза... Нэнси шепнула: «Не обижайтесь. Рональд не помнит даже даты своего рождения, никого кроме меня не узнает. Такая болезнь...» Я уходил из дома с тяжелым сердцем, лучше бы Шульц не приводил туда и Рейган остался в моей памяти сильным и уверенным в себе человеком, настоящим лидером нации...
— Вы ведь с ним начинали переговоры об объединении Германии?
— Впервые тема возникла летом 86-го на встрече Горбачева и Геншера. Михаил Сергеевич повторил крылатую фразу Сталина из приказа к Дню Красной Армии 23 февраля 1942 года: «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский остается». Геншер уточнил цитату: «...а народ германский, а государство германское остается». Сталин был жестоким человеком, диктатором, его справедливо ругают за это, но нельзя отказать этому человеку в уме и умении мыслить стратегически...
Реальные контуры воссоединение стало обретать в феврале 1990 года на международной конференции «Открытое небо», проходившей в канадской Оттаве. В работе саммита участвовали министры иностранных дел ведущих стран мира. В зале заседаний я оказался соседом госсекретаря США Бейкера, с которым у меня установились дружеские отношения. Он без обиняков спросил: «Эдуард, не пора ли подумать об объединении Германии? Как считаешь?» Напомню, Берлинская стена уже пала. Я не стал юлить и сказал, что поддерживаю идею, но предупредил: это мое личное мнение, а не позиция советского руководства. Горбачев к тому моменту не определился, журналисты не раз задавали ему вопрос в лоб, но он уходил от ответа. Надо сказать, что отношения с западными немцами у нас складывались не самым лучшим образом. В 86-м году канцлер ФРГ Гельмут Коль в интервью влиятельному журналу позволил себе неосторожную параллель, сравнив генсека КПСС с идеологом Третьего рейха Геббельсом. Позже Коль публично извинился, объяснив, что неудачно выразился, но скандал был громкий, и осадок, как говорится, остался. Горбачев не из тех, кто забывает обиды. И вот теперь Бейкер обратился ко мне с конкретным предложением. Я пообещал поговорить с Михаилом Сергеевичем. Госсекретарь поинтересовался: «А нельзя ли позвонить в Кремль прямо сейчас?» Что делать? По телефону я связался с Горбачевым, объяснил ситуацию. В ответ — тишина. Я даже испугался, что собеседнику на том конце провода плохо стало. Наконец слышу голос Михаила: «Проблему рано или поздно решать придется. Без этого не сможем двигаться дальше». Я передал слова Горбачева Бейкеру с Геншером, и вскоре начались переговоры под патронажем «большой четверки» — Соединенных Штатов, Советского Союза, Великобритании и Франции. Англичане с французами страшились укрепления Германии, да и в СССР к идее воссоединения относились неоднозначно, большинство людей высказывались против. Это было понятно: двадцать семь миллионов погибло на войне, такое не забывается. Боль о Великой Отечественной жила в каждом доме... Наша семья — не исключение. В 1941-м мне исполнилось тринадцать, а старшему из моих братьев Акакию — двадцать четыре, он служил пограничником в Бресте и пал в первом же бою... Его могилу я нашел с помощью Петра Мироновича Маше
рова, первого секретаря ЦК компартии Белоруссии, бывшего партизана. На обелиске среди имен защитников крепости-героя высечена и фамилия Шеварднадзе... В июне 1990-го мы с Гансом-Дитрихом Геншером, тогда вице-канцлером ФРГ, прилетали в Брест, вместе возложили цветы к могиле Акакия. Это был жест примирения, демонстрация того, что нельзя жить лишь прошлым, надо смотреть в будущее.
— Все так, Эдуард Амвросиевич, но многие до сих пор уверены, что вы с Горбачевым затребовали от Запада слишком малую цену за согласие на объединение Германии.
— Да-да, якобы Шеварднадзе и Горбачеву лично заплатили за сговорчивость... Могу показать вам, что в действительности получил от немцев в качестве благодарности за сделанное. Вот этот маленький обломок Берлинской стены, на котором написано два слова: Danke, Eduard. Когда в октябре 89-го от нашего посла в ГДР пришла шифрограмма, что обстановка накалена до предела, люди без конца митингуют и стихийно ломают стену, отделяющую восточную часть города от западной, мы с Горбачевым решили срочно лететь в Берлин. Была реальная угроза, что полумиллионный контингент советских войск вмешается в события и прольется большая кровь. Этого нельзя было допустить, мир оказался бы на грани третьей мировой войны! Почему полетели вдвоем? Честно сказать, я опасался, что генералы могут не послушаться министра иностранных дел, дипломат не начальник для них. Другое дело — Горбачев, Верховный главнокомандующий. Наш визит не афишировался, официально о нем не сообщалось. Мы провели переговоры с руководством ГДР, убедили немецких товарищей, что нашим солдатам лучше остаться в казармах. Об объединении Германии речь не шла, надо было сначала погасить ситуацию, сбить напряжение. В декабре 89-го на Мальте состоялась встреча Горбачева с Бушем-старшим, сменившим в Белом доме Рейгана. Американцы хотели убедиться, что мы не начнем стрелять из-за попыток ФРГ поглотить ГДР. В итоге, как я уже говорил, вопрос воссоединения через несколько месяцев в Оттаве первым поднял Бейкер...
Тема компенсации за вывод советского воинского контингента из Германии обсуждалась в июле 90-го в Архызе на Ставрополье. В переговорах участвовали Коль и Геншер — с одной стороны, Горбачев, я и маршал Ахромеев — с другой. Мы настаивали на выплате двадцати миллиардов дойчемарок, немцы соглашались дать пятнадцать миллиардов плюс пять, что уже были ранее выданы Советскому Союзу в качестве кредита. Деньги предназначались на строительство военных городков на территории СССР, обустройство на новых местах солдат, офицеров и членов их семей. Руководство Германии выполнило обещание полностью, выплатило оговоренную сумму в срок. Другое дело, кто и как ее израсходовал... Для меня совершенно ясно, что большая часть средств не пошла по назначению, оказалась разворована. Случившийся через год с небольшим развал Советского Союза отвлек внимание общественности от этой истории, у людей появились новые заботы. Сегодня никто не вспоминает, что подписанный в 90-м договор вступил в силу в марте 91-го, а фактический вывод из Германии уже бывших советских войск завершился через три года, как и предусматривалось изначально нашим соглашением. К тому времени на территории России должны были подготовить все необходимое для встречи воинских частей. Не могу и не хочу голословно обвинять людей, хотя догадываюсь, кто именно приложил руку к грандиозной афере и бессовестно нажился на соотечественниках. Тем не менее в сознании миллионов укрепилось: персональную ответственность за то, что армию бросили на произвол судьбы, несут Горбачев и Шеварднадзе. Знаю, многие офицеры до сих пор считают меня чуть ли не личным врагом. Назначить и потом требовать наказать стрелочников, пусть даже высокопоставленных, всегда проще, нежели попытаться установить истину...
— Почему в одном флаконе с объединением Германии не обсуждалась тема отказа НАТО от планов расширения на Восток и вовлечения бывших стран — участниц Варшавского договора в Североатлантический альянс?
— Кто мог предвидеть подобное в тот момент? Вопрос даже не поднимался. Единственным условием с нашей стороны было количественное ограничение бундесвера. Суммарная численность немецких войск по договору не должна была превышать 370 тысяч солдат и офицеров, оговаривались места дислокации частей, прочие детали. Про НАТО речь не шла, так далеко не заглядывали...
Эдуард Шеварднадзе — о поручении, которое он дал Горбачеву, о чемодане с деньгами, предложенном Ростроповичу, об искусстве ухода в отставку и возвращения из небытия, о том, как помог Кравчук и не выручил Ельцин, а также о том, чем отличается взрыв бомбы от взрыва в большой политике
Когда растянувшаяся на три дня беседа подошла к концу, решили сфотографироваться, что называется, на долгую память. Я напомнил Шеварднадзе о нашем первом интервью, записанном в 1990 году по дороге в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. Кто бы мог подумать, что в 2011-м будем в Тбилиси обсуждать события двадцатилетней давности?
— Правда ли, Эдуард Амвросиевич, что в политбюро ЦК вы активно ратовали за вывод советских войск из Афганистана?
— Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться в декабрь 85-го. Тогда в Москву для консультаций прибыли высшие афганские руководители, включая председателя Революционного совета Бабрака Кармаля и его преемника Наджибуллу, возглавлявшего службу госбезопасности. В конце переговоров, в которых с нашей стороны участвовали Горбачев, Громыко и я, Михаил Сергеевич сказал: «Так не может продолжаться вечно. Нашим солдатам придется покинуть Кабул. Мы все дадим — базы, оружие, боеприпасы, технику, включая танки и вертолеты, но вы должны сами навести порядок дома». Афганцев заявление не обрадовало, они прекрасно понимали, что их режим держится на русских штыках. Но слово было произнесено, оставалось дождаться дела. Меня назначили председателем специально созданной комиссии политбюро по Афганистану, и я твердо сказал себе, что приложу все усилия для скорейшего решения проблемы.
25 февраля 1986 года открывался XXVII съезд КПСС, первый для Горбачева как генсека. Я попросил его включить в доклад тезис по Афганистану, и он согласился. Но в руководстве страны не всех устраивала такая постановка вопроса, на Михаила Сергеевича начали активно давить военные вместе с другими силовиками, и у меня зародились сомнения, что Горбачев устоит. Действительно, поздно вечером 24 февраля членам политбюро по существовавшему тогда правилу разослали последний вариант доклада, с которым генеральный секретарь собирался выступить на съезде партии. Я бегло просмотрел текст и не обнаружил никаких упоминаний об афганской проблеме. Хотя уже стояла глубокая ночь, решил не ждать утра и позвонил Горбачеву домой. Он сразу снял трубку, я объяснил причину, по которой беспокою в столь неурочный час. На несколько секунд повисла пауза... Потом Михаил Сергеевич проговорил: «Эдуард, может, подождем немного? Еще не время». Я ответил, что тогда сам выступлю на съезде: «Тянуть нельзя! Народ наверняка меня поддержит, а вы окажетесь не в лучшем свете». Горбачев снова помолчал, после чего подвел черту под разговором: «Ладно, убедил. Завтра добавлю в речь пункт о выводе войск». Утром, когда я собирался выезжать со Смоленской площади в Кремль, Михаил Сергеевич позвонил из машины и, посмеиваясь, чтобы скрыть неловкость, сказал: «Твое поручение выполнено, Эдуард!»
Действительно, с трибуны съезда Горбачев на весь мир заявил о намерении в кратчайшие сроки вернуть войска на родину. Но время шло, а реальных перемен не происходило, в Кабул с прежней регулярностью продолжали летать военно-транспортные самолеты: туда они везли свежее пополнение, а обратно забирали «груз 200» — цинковые гробы с останками погибших. По службе мне восемь раз довелось побывать в Афганистане, я видел, что страна лежит в руинах, хозяйство ее разрушено, народ доведен до нищеты и предельно озлоблен. Продолжать агонию было преступно. Многократно говорил об этом на заседаниях политбюро, но вместо ответа обычно наталкивался на глухое раздражение. Военно-промышленное лобби не скрывало заинтересованности, чтобы афганская кампания тянулась максимально долго, высший генералитет сказочно наживался на торговле оружием и наркотиками, его не волновало, что за преступный бизнес жизнями платят молодые ребята. Наджибулла, в 86-м году сменивший Кармаля на посту главы государства, видел мое отношение к происходящему и, когда я прилетел в Афганистан в очередную командировку, вдруг сказал: «В составе советского контингента находится 1649 кавказцев, из них 314 — грузины. Мы всех сосчитали, никого не забыли. Если хотите, забирайте земляков с собой, но остальных солдат не трогайте». Я внимательно посмотрел на Наджибуллу и ответил, что представляю не Грузию, а Советский Союз, чужими жизнями торговать не приучен, поэтому буду добиваться вывода всех войск. Помню, какое тяжелое впечатление произвела на меня встреча с нашими солдатами и офицерами, состоявшаяся в Кабуле, кажется, летом 1988-го. Я настраивался на откровенный диалог, готовился отвечать на любые, даже острые вопросы, но переполненный зал молчал. «Афганцы» сидели с потухшими глазами и отсутствующим выражением на лицах. Мне так и не удалось втянуть людей в разговор, кажется, они потеряли окончательную веру, что смогут вернуться к родным живыми и здоровыми. В Москве на заседании политбюро я снова поднял вопрос о выводе войск. Возник спор. Наиболее активно мне возражали секретарь ЦК, бывший председатель КГБ СССР Чебриков и его преемник на этом посту Крючков. Я не выдержал и прямо спросил Горбачева: почему не выполняется решение съезда, как мы будем людям в глаза смотреть? Лишь тогда воз сдвинулся с мертвой точки, начались практические шаги к возвращению советских солдат на родину. Я контролировал процесс до самого конца, даже участвовал в обсуждении маршрута отхода войск. Было решено идти по районам, где живут таджики. Расчет оказался правильным, в спину нашим ребятам никто не стрелял, удалось избежать ненужных потерь. Полностью вывод ограниченного контингента, как известно, завершился 15 февраля 1989 года, но еще долго, до отставки с поста министра, я продолжал курировать афганское направление, следил, чтобы режим Наджибуллы получал необходимую помощь от Советского Союза. Потом СССР исчез с карты мира, а руководству новой России было явно не до соблюдения прежних договоренностей.
— Как, кстати, складывались ваши отношения с Ельциным, Эдуард Амвросиевич?
— Пока Борис Николаевич работал в Свердловске, он раза два прилетал в Тбилиси, мы встречались, общались, немножко выпивали. Конечно, в меру, соблюдая приличия... Потом я стал министром, а Ельцин возглавил московскую парторганизацию, и мы пересекались уже на заседаниях и совещаниях в ЦК. Когда Борис Николаевич неожиданно выступил с резкой и не очень понятной критикой в адрес Горбачева, я сначала не хотел вмешиваться в спор, но потом вышел на трибуну и подробно объяснил, почему не могу согласиться со словами Бориса Николаевича. Все, на том нашей дружбе пришел конец. Хотя мы и продолжали общаться. Утром 19 августа 91‑го в теленовостях сообщили о создании ГКЧП, я понял, что в стране совершен государственный переворот, и из квартиры в Плотниковом переулке пешком отправился в Белый дом. Меня провели в кабинет к Ельцину. Он показал проект указа о переподчинении ему расположенных на территории России союзных войск и спросил: «Подписывать этот документ?» Мой ответ был краток: «Немедленно! Иначе будет поздно!» Потом я вышел к людям, собиравшимся к Дому Правительства. Кто-то крикнул: «Шеварднадзе с нами!» Народ мигом подхватил, начал скандировать. Тогда я ответил: «Ельцин с нами!» Чтобы Борису Николаевичу не было обидно...
Там же, в Белом доме, я встретил Мстислава Ростроповича и очень удивился. Оказывается, он прилетел из Парижа, решив с автоматом в руках защищать молодую российскую демократию. Характерный поступок для этого великого человека и замечательного музыканта! К слову, мы познакомились при весьма необычных обстоятельствах. Это произошло... заочно. Сейчас объясню. В 70-е годы у Мстислава Леопольдовича были приятельские, можно даже сказать, братские отношения с министром внутренних дел СССР Николаем Щелоковым. И вот однажды в московскую квартиру Ростроповича и Вишневской пришел мужчина с тяжелым чемоданом. Он поставил груз на пол и сказал: «Внутри — деньги. Много! Очень! Отдам их вам, если выполните маленькую просьбу. Уговорите Николая Анисимовича забрать Шеварднадзе из Тбилиси! Пусть назначает своим замом в министерстве, дает любую должность здесь, в Москве, лишь бы ноги того не было в Грузии!» Интеллигентного Мстислава Леопольдовича визит незваного гостя сильно озадачил, а Галина Павловна без долгих раздумий выставила наглеца за дверь, проговорив напоследок: «И чемоданчик прихватите, пока не сдали вас в милицию. Не по адресу обратились! Мы взяток не берем, зарабатываем честным трудом!» До сих пор не знаю, кто снарядил гонца, почему он пришел именно к Ростроповичу. Мстислав Леопольдович рассказал эпизод замечательной пианистке, профессору Московской консерватории Элисо Вирсаладзе, с которой дружил. От нее история стала известна мне... Позже я встретился с Ростроповичем, он подтвердил: все так и было. Потом Мстислав Леопольдович не раз приезжал по моему приглашению в Тбилиси, мы стали друзьями. В последние годы, правда, виделись редко из-за напряженного графика: у Ростроповича — гастроли и концерты, у меня — президентские обязанности...
— ...которые вы сложили досрочно и, скажем так, не вполне добровольно. В отличие от отставки с поста министра иностранных дел, случившейся 20 декабря 1990 года. Для многих тот ваш шаг стал неожиданным.
— Но не для меня. Все к тому шло. Я ведь получал различную информацию не только по официальным дипломатическим каналам, но и кулуарно. В аппарате МИДа на серьезных участках работали вчерашние выпускники МГИМО, а бывшие однокурсники этих ребят после окончания вуза служили в КГБ, ГРУ, других структурах. Молодые люди встречались и по-дружески обменивались новостями из категории тех, о которых не пишут в газетах и не сообщают по радио. В какой-то момент мне стали поступать настойчивые предупреждения о готовящемся выступлении контрреволюции. Я перепроверил сообщения через несколько источников, они подтвердили: да, это не шутки, все серьезно. Полученными сведениями я решил поделиться с Горбачевым, сказал ему: «В стране творится неладное, может случиться беда». Он отреагировал странно. Вроде бы внимательно выслушал, но мер не предпринял, оставил все по-прежнему. Чуть позже я повторно заговорил о своих опасениях. На этот раз Михаил Сергеевич раздраженно отмахнулся: «Брось тучи сгущать, Эдуард! Какая контрреволюция? Откуда?»
— Как вы, кстати, обращались к Горбачеву наедине?
— Без свидетелей обычно звал Мишей. Мы же давно знали друг друга. Но на публике — только по имени и отчеству... Отношения у нас были товарищескими и доверительными, пока году в 88-м я не почувствовал: Горбачев не то что ревнует, но потихоньку отодвигает меня в сторонку. Может, ему не нравилось, что я напрямую общался с мировыми лидерами, пользовался авторитетом внутри страны? Не знаю. Потом много размышлял, почему Горбачев так настаивал на моем приходе в МИД. Ведь Громыко был суперпрофессионалом и с новым генсеком вел себя подчеркнуто лояльно. Зачем понадобилась замена? Андрей Андреевич отработал министром почти тридцать лет и мог бы еще столько же! Видимо, Михаилу Сергеевичу на внешнеполитическом направлении требовался полный дилетант, которым легко управлять! Правда, на словах главный его аргумент при моем выдвижении звучал так: сейчас нужны не дипломаты, а политики. К счастью для одних и к несчастью для других, я быстро освоился на новом месте. После чего в прессе и с трибуны съезда народных депутатов СССР начались грубые нападки на МИД, персонально на меня. Требовали исключить Шеварднадзе из партии, посадить в тюрьму за измену родине, расстрелять как врага народа. Едва ли не каждый отчет перед парламентом превращался в форменное издевательство. Поток ругани и грязи пыталась остановить, пожалуй, лишь Галина Старовойтова, смело шла против большинства, прочие с удовольствием подбрасывали дровишек в костер... Все валили в кучу — обнародование пакта Молотова — Риббентропа, объединение Германии, отношения с Америкой, многое другое, к чему я не имел ни малейшего отношения. Горбачев не реагировал на провокации в мой адрес, молчал, хотя мне казалось, что дело генерального секретаря ЦК КПСС — заступиться за коллегу и соратника.
— А Раиса Максимовна?
— Она была очень умная женщина. Извините, скажу прямо: куда... прагматичнее мужа. Сколько раз случалось: Михаил Сергеевич сгоряча примет какое-нибудь решение, а Раиса Максимовна потом убеждает, что шаг ошибочный, его надо отменить. И не отступит, пока не добьется своего! Так было и в Женеве, и после... С ней я находил общий язык гораздо проще и быстрее, чем с Горбачевым. Но все-таки КПСС и страной руководила не она...
Обстановка вокруг меня продолжала нагнетаться, пока я не почувствовал: дальше молчать и терпеть нельзя. Если министра иностранных дел не хотят услышать, надо уходить. Об отставке решил объявить на IV съезде народных депутатов СССР, проходившем в Кремле и транслировавшемся на всю страну. Мои помощники заранее распространили полный текст выступления, а я с трибуны сказал о надвигающейся угрозе диктатуры, реальной опасности, недооценивать которую преступно, и о решении уйти в знак протеста. Закончил говорить и вернулся на правительственную трибуну. Слово попросил Дмитрий Лихачев, академик, очень уважаемый человек. Он стал убеждать меня остаться в МИДе, продолжить работу. Я ничего не ответил, лишь покачал головой и молча вышел из зала. Многие депутаты поднялись с мест и стоя аплодировали. Потом выступил Горбачев, сделал вид, будто страшно удивлен услышанным. Мол, что же это получается? Я, генеральный секретарь, ничего не знаю о готовящемся перевороте, лишь Шеварднадзе в курсе? КГБ молчит, другие спецслужбы, только министр иностранных дел бьет в колокола. Может, ему на Западе что-то нашептали? Словом, постарался сделать из меня несерьезного человека, болтуна.
Но время показало: мои предупреждения не были плодом разгулявшегося воображения. Прошел год, и, не устояв под напором Ельцина, Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР, после Беловежских соглашений страна исчезла с политической карты. К великому счастью, обошлось без большой крови, ГКЧП не хватило духу применить силу по-настоящему. Не знаю, пожалели бы путчисты Михаила Сергеевича в случае победы, но мне точно не поздоровилось бы. Уже были составлены списки тех, кого следовало безотлагательно ликвидировать. Моя фамилия значилась в числе первых...
Когда рассказываю об этом сегодня, страха не испытываю, но в те дни буквально кожей чувствовал опасность. Однако это не заставило меня отказаться от принципов, изменить себе. И из КПСС я вышел, едва узнал, что кто-то из ЦК дал поручение комитету партийного контроля Грузии найти какой-нибудь компромат на Шеварднадзе, вывалять меня в грязи. Эту информацию я получил в Вене, где находился по приглашению канцлера Австрии Франца Враницкого. Тут же созвал пресс-конференцию и объявил о выходе из состава политбюро и прекращении членства в партии. Западные журналисты встретили новость аплодисментами, а их советские коллеги, наверное, были в шоке. Но в тот момент я не думал об оценках, которые дадут моему шагу окружающие, поступал так, как подсказывала совесть.
После ухода из МИДа основал Внешнеполитическую ассоциацию. Создавал ее с нуля, не было ни денег, ни помещения. Помогли частные лица, предприниматели. Начинали втроем — Степанов-Мамаладзе, Тарасенко и я. Ездили на «Волге», которую полулегально получили в гараже министерства, сняли небольшой офис рядом с Курским вокзалом... Постепенно пошли заявки на лекции и консультации, возник спрос на интервью. Особенно у иностранной прессы. Отечественную я интересовал меньше... За казначея у нас был Темо, в конце каждого месяца он распределял между всеми то, что удалось заработать. Жили на гонорары, государство не дало ни рубля. Впрочем, мы и не просили... Обидно другое: с декабря 90-го миновало достаточно времени, но у Горбачева ни разу не возникло желания узнать, что со мной, чем занимаюсь. Мог бы из вежливости спросить, как дела, настроение. Нет, не снял трубку, не позвонил. Поначалу я переживал, огорчался, продолжая по привычке считать Михаила другом и не замечая, что за годы на самом верху Горбачев сильно изменился. И, увы, не в лучшую сторону. Раньше ведь он был иным, но власть есть власть... Словом, я старался не думать о нем, выкинул из головы. Тем неожиданнее прозвучал звонок, когда я уже не ждал его. Это случилось в ноябре 91-го, после путча. К тому времени вместе с Александром Яковлевым, Анатолием Собчаком, Гавриилом Поповым и еще несколькими товарищами мы создали организацию, получившую название «Движение демократических реформ». Я стал в ней сопредседателем. И вдруг — Михаил Сергеевич. Говорит непринужденным тоном, будто виделись накануне и не было долгого перерыва в общении: «Эдуард, можешь срочно приехать в Кремль?» Спрашиваю: «Зачем?» Отвечает: «Есть серьезное дело. Не по телефону». Я уже слышал похожую фразу шесть лет назад, когда Горбачев хотел поставить меня во главе МИДа. Наверное, ему опять что-то понадобилось, а я, значит, должен забыть старое и бежать по первому зову? Михаил почувствовал мое настроение и после паузы произнес: «Наверное, в случившемся есть моя вина, но и ты не прав. Мог не ждать, позвонить первым. Все-таки я президент, глава государства...» Договорились, что пойдем к Горбачеву вдвоем с Яковлевым. Приходим. Михаил Сергеевич объявляет: «Возникла идея объединения МИДа и министерства внешней торговли с Шеварднадзе во главе нового ведомства». Замолчал. Ждет моей реакции. Я ничего не говорю, смотрю ему в глаза. Тогда Горбачев продолжил: «Ситуация сложная, ты же видишь. Надо подняться над личными обидами, подумать о стране». Должен сказать, что сразу после путча я получил коллективное письмо от семи с лишним тысяч сотрудников МИДа. Люди просили вернуться. Тогда я отказался, а теперь вот согласился и... совершил грубую ошибку! Не было у меня морального права возвращаться на Смоленскую площадь, не было! Я понимал: Горбачеву доверять нельзя, но опять поддался на его уговоры... Михаил Сергеевич подписал указ о моем назначении министром внешних сношений СССР, я вошел в старый, хорошо знакомый кабинет на седьмом этаже, где за год сменилось три хозяина: сначала был Бессмертных, потом — Панкин, бывший посол в Чехословакии... Но дело в ином. Это место перестало быть центром силы, власть перешла к другим. Команда Ельцина забрала под свой контроль практически все. Менее чем через месяц после моего вступления в должность состоялось подписание Беловежского соглашения, Советский Союз перестал существовать де-факто, Россия объявила себя правопреемницей СССР. Предстояло урегулировать массу юридических вопросов, но независимые государства, возникшие на обломках империи, не хотели ждать... 18 декабря 91-го, улетая с визитом в Италию, Ельцин подтвердил желание перевести собственность МИД Советского Союза под юрисдикцию России. Уже на следующий день мне вручили проект указа Бориса Николаевича о передаче имущества. Так закончилась моя дипломатическая эпопея...
— Когда вы Горбачева в последний раз видели, Эдуард Амвросиевич?
— Давно. Хотя с восьмидесятилетием он меня поздравил, прислал теплое письмо. Регулярно зовет на конференции, которые организовывает его фонд, но я не езжу. Во-первых, физически тяжеловато, во-вторых, не хочу. Пусть Михаил Сергеевич останется в памяти таким, каким его помню. Если встретимся, обязательно начнем говорить о допущенных ошибках, выяснять, кто и в чем виноват. А это ведь ничего не изменит...
Что же касается Ельцина, был весьма показательный момент, с ним связанный. Я уже находился в Грузии, возглавлял парламент республики. В сентябре 93‑го в страну вернулся Звиад Гамсахурдиа, сверженный почти два года назад с поста президента. Он сформировал в Зугдиди «правительство в изгнании» и принялся вербовать отряды сторонников. Гражданская война, с большим трудом остановленная нами, начала разгораться с новой силой. Звиадисты захватили Поти с единственным работавшим тогда портом, перекрыли путь, по которому в Грузию поступал основной поток товаров первой необходимости, а также оружие и боеприпасы. Запасы продовольствия в Тбилиси подходили к концу. Что делать? Я позвонил в Москву Ельцину. Сказал: «Вы знаете, без крайней нужды не стал бы ни о чем просить, но сейчас мне очень трудно». Борис Николаевич спросил: «В чем дело?» Я объяснил, что морские ворота Грузии в руках врага, мы в блокаде, народу угрожает голод. Ельцин выслушал и говорит: «Ты же находишься в Тбилиси? Вот и сиди там, а Звиад пусть хозяйничает в Западной Грузии, он на штурм идти не собирается». И легкая издевка в голосе проскользнула. Я прошу помочь, а мне предлагают согласиться на раздел страны! Разве возможно такое? Но спорить не стал, лишь сказал: «Не ожидал от вас подобного, Борис Николаевич...» Звоню Кравчуку, президенту Украины, описываю ситуацию. В отличие от Ельцина, с которым мы были близко знакомы, с Леонидом Макаровичем я до того встречался один раз, но он внимательно отнесся к моим словам. Правда, спросил, не хочу ли поговорить с Борисом Николаевичем. Пришлось пересказать наш диалог. Кравчук сразу все понял, даже не дал завершить фразу: «Не продолжайте, все ясно! У Черноморского флота объединенное командование, оно подчиняется президентам двух стран. Завтра к концу дня корабли будут в Поти». Действительно, через сутки на рейде стояла мощная эскадра. Ей и стрелять не пришлось, звиадисты разбежались по лесам от вида армады. Семь дней корабли провели в Поти, этого времени хватило, чтобы наши регулярные части успешно завершили операцию в Западной Грузии, взяли территорию под полный контроль...
Вот так в той ситуации повели себя Кравчук и Ельцин. Выводы делайте сами... Потом мы еще не раз встречались с Борисом Николаевичем, он прилетал в Тбилиси с визитом, но от прежней душевности в наших отношениях не осталось и следа. Переговоры тоже не складывались, Ельцина больше волновали не обсуждавшиеся вопросы, а то, что водка на столе теплая... Но я не хочу плохо говорить о покойнике. Что было, то было. Тем более это российский президент, вам его и оценивать.
— Будущее рассудит... Но мы, Эдуард Амвросиевич, убежали вперед. Хочу отмотать пленку на день, когда вы вернулись в Грузию из Москвы. Знаю, что поехали в кафедральный собор Сиони за благословением к католикосу, Илия II крестил вас и нарек новым именем — Георгий.
— Да, все так. Инициатором моего возвращения стал Джаба Иоселиани, командир отряда «Мхедриони», впоследствии член Госсовета Грузии. Он несколько раз звонил мне, убеждал. Прилетели мы вдвоем с женой. Это был день рождения Нанули, 7 марта 92-го. Спускаемся по трапу самолета, внизу стоит толпа людей, вся тбилисская интеллигенция. Решение ехать в храм возникло спонтанно. С патриархом я познакомился, когда еще работал в МИДе. Человек, устроивший нашу встречу, преследовал собственный интерес, рассчитывал, что назначу его чрезвычайным и полномочным послом. Илия II тоже за него ходатайствовал, мол, умный, порядочный работник. Я вежливо ответил, что мнение патриарха учту. Действительно, проситель через какое-то время уехал дипломатом в Сирию. Правда, не послом... Но вернемся в 7 марта 92-го. Аудиенция у Илии II продолжалась более часа, а в конце разговора патриарх сказал: «Эдуард — хорошее имя, но не грузинское. Что ответите, если назову вас Георгием?» Честно признаться, в первую секунду я смутился. Подумал, что побывал по работе почти в семидесяти странах, во всем мире меня знают как Эдуарда. И вдруг — Георгий. Кто такой? Откуда? А потом стал спокойно размышлять и понял: это гордыня, Блаженнейший прав. В тот же день состоялось мое крещение. Илия II подарил мне нательную иконку святого Николая. С тех пор всегда носил образок с собой, порой и официальные бумаги подписывал: Эдуард-Георгий Шеварднадзе. Так зовут моего правнука, родившегося в апреле прошлого года. Его крестным отцом стал патриарх. Илия II много сделал для меня, может, даже слишком, и я не заслуживаю столь доброго отношения. Помню, однажды мы с католикосом вместе вышли из Самеба, нового кафедрального собора Пресвятой Троицы, построенного при моем активном участии и с благословения патриарха. Собравшиеся на службу люди улыбались нам. Блаженнейший сказал: «Народ любит вас, Георгий. Этим надо дорожить». Расскажу еще эпизод, очень важный... 20 октября 2004 года умерла моя Нанули. Печальное известие я получил в Германии, где находился на конференции. Тут же отменил все встречи и вылетел в Тбилиси. Мне хотелось, чтобы супругу похоронили здесь, во дворе резиденции в Крцаниси. Патриарх сначала возражал: «Вы каждый день будете видеть могилу любимого человека и страдать. Неправильно, так нельзя». Но я настаивал, говоря, что это решение семьи. Да и мне легче, если Нанули рядом. Будто и не уходила никуда, все слышит, наблюдает... Патриарх понял мои чувства и согласился. Тогда же мы договорились: меня похоронят рядом с женой, когда придет черед. Илия II благословил и этот шаг...
Знаете, я много лет состоял в партии, называвшей религию мракобесием, но в конце жизни не стыжусь признаться, что стал верующим человеком. У каждого своя дорога к Богу. Моя оказалась не самой простой. Все началось еще в 1981‑м, когда мне позвонил Тенгиз Абуладзе, известный наш кинорежиссер, и попросил о встрече. Мы дружили, и я сказал: «Приходите вечером домой». Тенгиз принес толстую пачку отпечатанной бумаги, положил на стол и сказал: «Это сценарий нового фильма. Боюсь, будут проблемы со съемками. Без вашей помощи не обойтись». На первой странице стояло одно слово «Монаниеба» — «Покаяние». Я прочел текст запоем, на едином дыхании, испытал настоящий шок. Ничего не говоря, отдал сценарий Нанули, отца которой расстреляли, мать и других родственников репрессировали. Жена читала и плакала. А я стал думать, чем помочь Абуладзе. Решили: надо снимать как телефильм, это требует меньше согласований, а дальше — по ситуации. Действительно, в процессе работы над «Покаянием» я пробил в Москве разрешение делать полнометражное кино. Картина была готова в 1984 году, но более двух лет пролежала на полке и вышла на большой экран лишь после того, как ее посмотрели Горбачев и отвечавший за идеологию в партии Лигачев. Я же сделал все, чтобы фильм включили в программу Каннского фестиваля. Его там приняли на ура. Но главное даже не в этом, не в призах и наградах. Уверен, без монаниебы, покаяния без кавычек, жизнь страны, да и моя лично, сложилась бы намного труднее. Абуладзе, кстати, писал сценарий второй части картины, не успел его закончить, умер в 94-м году, но путь к храму указал многим...
— А как вам удалось привезти в Грузию Папу Римского?
— В этом нет моей особой заслуги. Иоанн Павел II давно хотел посетить православную страну. В Россию приехать не получилось, на Украину и в Армению тоже. А я дважды встречался с понтификом, когда работал в МИДе, потом летал к нему в качестве главы независимой Грузии. Вот и пригласил в гости. Иоанн Павел II сказал: «С удовольствием!» Он сдержал слово, побывал в Тбилиси в 1999-м, выступил с проповедью, в которой говорил о братстве религий. После этого у нас состоялся очень содержательный диалог. Понтифик был прекрасным собеседником, я тоже, надеюсь, не самый скучный...
— Я вот хотел спросить вас напоследок о пережитых покушениях. Точнее, о счастливом спасении благодаря иконке Николая Чудотворца.
— Да, она и сейчас со мной. Могу показать. Вот... Первый раз мне пытались подстроить авиакатастрофу в октябре 92-го, когда я летел из Сухуми на север страны. Вертолет чудом не разбился, спасло мастерство пилота Джимми Майсурадзе. Позже он погиб на войне. Второе покушение произошло 29 августа 95-го: на пути следования моего автомобиля взорвали начиненную взрывчаткой «Ниву». Подрывник чуть опоздал, наша машина успела проскочить наиболее опасную зону, ей разворотило заднюю часть кузова, но находившиеся в салоне остались живы. Третье покушение случилось поздно вечером 9 февраля 1998 года. Мы попали в засаду по дороге из здания госканцелярии сюда, в резиденцию Крцаниси. Два выстрела из гранатомета поразили двигатель «Мерседеса», и он заглох. Броня погасила удар, но машина загорелась. Третья ракета угодила в багажник, автомобиль продолжал катиться по инерции, однако водитель не видел дороги из-за треснувшегося лобового стекла. Бойцы моей охраны вступили в бой с нападавшими, не давая им продолжить атаку. Оказавшийся рядом постовой полицейский не растерялся, быстро подогнал свою машину, и на ней мы помчались в резиденцию. К сожалению, в той схватке погибли сотрудники службы госбезопасности Каха Шеварденидзе и Давид Кокаури, совсем молодые парни. Еще двое, Арчил Сабедашвили и Ладо Кахетелидзе, были тяжело ранены. Если бы не они, водитель Гиви Элизбарашвили и бронированный «Мерседес», «проглотивший» три ракеты, мы все оказались бы жертвами теракта. Та развороченная машина до сих пор находится в моем гараже как свидетельство неудавшегося покушения на главу независимой Грузии. Догадываюсь, кто мог стоять за преступлением...
А тогда, 9 февраля, Нанули, увидев, что я цел и невредим, благословила Господа за чудесное избавление и спросила: «Где твоя иконка?» Жена знала, что никогда ее не снимаю, но теперь образа на мне не было. Охрана отправилась на место нападения и обнаружила иконку в кустах. Рядом с расположенным у дороги храмом Николая Чудотворца... Как после такого не поверить во Всевышнего? Наверное, ему было угодно сохранить мою жизнь, чтобы мог еще поработать на благо Грузии. Надеюсь, справился... Зарубежные коллеги и друзья не забывают меня, особенно часто зовут в Германию. Между прочим, когда в 2003 году я вынужден был уйти в отставку с поста президента, тогдашний федеральный канцлер Шрёдер предложил переехать в Бонн или Берлин, гарантировал все необходимое для жизни. Конечно, я не стал покидать родину, хотя в Германии бывал, наверное, чаще, чем в любой другой стране мира. На двадцатилетие падения Берлинской стены выбраться, правда, не получилось, но за несколько дней до торжеств прилетал на встречу со старым другом Геншером. Компания ZDF снимала документальный фильм обо мне и специально прислала самолет по такому случаю. Да, в последнее время езжу меньше: очень много времени занимают встречи с журналистами, дипломатами — как бывшими, так и действующими, политологами, студентами. Много читаю, стараюсь больше внимания уделять семье — детям, внукам, правнукам. Дочь Манана руководит в Тбилиси «Нео-студией», выпускающей видеопродукцию. Ее супруг Гия Джохтаберидзе занимается бизнесом в сфере мобильной связи. Внучка Тамуна Мосашвили-Шеварднадзе доктор юриспруденции, ее муж Сарандос Харампопулос тоже бизнесмен, он родом из Греции, но свободно говорит по-грузински. Их ребенок Тодорос-Андрия — мой старший правнук. Паата, мой сын, четырнадцать лет отработал в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, теперь хочет вернуться домой. Его жена Нино Ахвледиани занята переводческой деятельностью. Внук Лаша получил специальность политолога, работает в финансовом секторе. Татия Шарангия-Шеварднадзе, его супруга, талантливая пианистка, в конце января в большом зале тбилисской консерватории состоялся ее сольный концерт. Татия и Лаша назвали первенца в мою честь Эдуардом. Самая младшая из внучек Нанулико живет и учится в Париже, очень способная девочка, прекрасно рисует, играет в теннис, посещает хореографическую школу. Особые отношения у меня с внучкой Софико. Она там, у вас, на радио «Эхо Москвы».
— Вас в Белокаменную не тянет, Эдуард Амвросиевич?
— Честно? Нет. Как говорится, лучше вы к нам. Но непременно с мирными целями...
Тбилиси — Москва