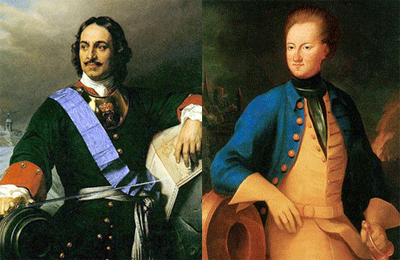
Два полководца в Полтавской битве
К 300-летию победы Петра Великого под Полтавой
В Северной войне царь Пётр I и король Карл XII никогда не выпускали из поля зрения друг друга. Их личное противоборство достигло особого накала с 4 июня 1709 г., когда Пётр I прибыл под Полтаву. Оба монарха были государями «Божьей милостью» и знали, что выполняют волю Господа, определяя судьбу государств. Воля обоих была законом как в Швеции, так и в России. Оба истовых державника были центрами притяжения для подданных. Оба упорно преследовали свою цель. Обоими война считалась правым делом; для одного – укрепить и расширить господство Швеции в Северной и Восточной Европе, для другого - вырвать Россию из тисков обветшавшего прошлого и отвоевать выход к морям. Оба были выше своего окружения – король как талантливый европейский полководец; Пётр прежде всего как гениальный зодчий и реформатор огромной страны, для которого война была только средством преобразования государства. В центре внимания Карла XII была любимая и любящая его армия, кругозор Петра I, кроме армии и России, охватывал Европу, Дальний Восток и Индию.Природный военный талант Карла XII был подкреплён прекрасным образованием – его учили профессор-латинист из Упсальского университета, лучший королевский советник и администратор, лучший фортификатор и знаток теории и практики военного дела. Карл был способен к математике и физике, знал латынь, немецкий и французский языки [1].
Ограниченный думный дьяк Никита Зотов не дал царевичу Петру не только серьёзных знаний, но не обучил даже правилам орфографии. Познаниями в науке, истории, географии и военном деле Пётр обязан только себе и своей жадной познавательной активности. При колоссальной работоспособности, оригинальности и быстроте мышления, свойственных гению, при любви к военному делу он стал самым опытным офицером и талантливейшим военачальником Русской армии.
Карл XII все оперативные и тактические планы держал в своей голове, считал себя способнее всех генералов и был снисходителен к ним. «Офицерский корпус привык принимать приказы только короля и мало обращался к генералам» (А.Л. Левенгаупт). Офицеры добросовестно и точно выполняли его распоряжения и не решались на свои почины. С военными помехами Карл XII не считался и не признавал ретирад - всё должно быть решено молниеносными, беспощадными ударами и напором победного духа. Личная стратегия короля, не терпевшая посторонних вмешательств, была поразительно ограниченной – удар по центру государства врага при игнорировании всех остальных факторов [2]. Вплоть до Полтавской катастрофы Карл признавался в Европе гением Северной войны, сделавшим ставку не на дипломатию и союзников, но исключительно на меч. Неудачи - это признак неверно избранного пути, но ни одно из поражений, даже Полтавская катастрофа не смутили короля. Конечно, он мог учитывать поражения своей армии при Калише в 1706, Добром и Лесной в 1708, под Веприком 1709, но упрямство и односторонность мышления резко снижали его полководческий дар.
Гений Петра I определял действия армии и флота с учётом факторов на театрах военных действий от Балтики до Черноморья, Дона и Башкирии. «Сокрушающей стратегии» Карла XII он противопоставил стратегию «отложенной победы» - уклонение от крупных сражений, разорение местности перед наступающим врагом («скифскую войну») и тактику малых нападений. Важной заботой царя были дипломатия и поиск союзников. Военные советы Пётр собирал регулярно. После военных советов разногласий среди командования не допускалось, а инициатива вменялась в обязанность.
Оба монарха-полководца владели громадной психической энергией могли вдохновлять и знали силу своего воздействия на воинов. Оба не страдали манией величия, были просты в общении и быту, но характер их был резко контрастным.
Замкнутый и молчаливый Карл, своим героизмом и силой духа звал к славе, первым бросался в бой и был уверен - за ним пойдут в огонь и в воду. Для презиравшего опасность короля не было альтернативы «смерть или победа» - под защитой Бога могла быть только победа! Король ценил мужество и прямоту, заботился о солдатах, молился за армию и старался не допускать лишних потерь. Бесстрашие и самообладание позволяли ему не терять хладнокровия под градом пуль. Быстрота и натиск ударной тактики были решающим фактором его побед. Если смелость Петра сочеталась с разумной осторожностью, то смелость Карла - с безрассудством. Как в рыцарские времена, Карл с несколькими драбантами любил врезаться в строй врага и прогонять его.
Пожертвовав личной жизнью ради утверждения величия Швеции, Карл принял обет трезвости и аскетизма и не знал болезней. Его единственной усладой была стихия войны. Король наравне со всеми делил тяготы походной жизни. Вот почему он был любим солдатами. Месть была его мощным стимулом в борьбе на уничтожение против ненавистного Петра. Без жесточайшего наказания врага - никаких мирных переговоров! Не зря этому стальному полководцу турки дали прозвище «железная голова».
Экспансивный, с резкими перепадами настроения, Петр I не жалел ни себя, ни других. Непрерывные пиры, неуёмные и разгульные порывы, сильно подкашивали здоровье царя, хотя после обильных возлияний он был способен великолепно работать на другой день. Вместе с тем личным примером на верфях, кораблях, заводах и в боях венценосец великой страны поднимал людей на подвиги. На своих плечах Пётр держал неимоверную тяжесть – весь фронт и тыл страны. Благодаря бешеной энергии Петра страна совершила уникальный в мировой истории рывок модернизации.
В тактике Пётр I считал, что риск должен быть оправданным. Как полководец он всегда учитывал максимум случайностей, был предусмотрителен и осторожен, не стыдился отступлений, снижавших внешний престиж страны. Он учился не только на своих, но и на чужих военных неудачах. Каждое поражение он воспринимал как ценный опыт. Пётр уважал искусного и храброго соперника и быстро обучил свою армию шведской ударной тактике.
Преддверие сражения
В первых числах июня в окружении короля началась открытая критика Карла XII. Шведы под Полтавой измучились от жары, безводья, непрерывных дежурств на постах и тревожных ночей, когда спать приходилось при оружии. Неудачу осады шведы списывали на недостачу шанцевого инструмента, непригодность запорожских «землекопов», упадок сил караулов, нехватку осадной артиллерии и боеприпасов[3]. О стойкости полтавского гарнизона, казаков, полтавчан и умелой обороне полковника А.С.Келина, естественно, никто не говорил. Чувствуя, что упрямство короля тянет армию к катастрофе, 11 июня первый министр К.Пипер, советник канцелярии О.Гермелин и Мазепа уговаривали Карла XII снять осаду и отступить в Польшу. Однако король о состоянии армии судил только по себе и если принимал решение, то его нельзя было от этого отговорить.
Положение в городе тоже становилось критическим. Келин кормил солдат зерном, обнаруженным в ямах у горожан. По его расчётам, хлеба должно было хватить только до конца июня, на июль же не станет хлеба и на 3 дня. Казаков кормили сами жители. Умирали мещане и сбежавшие в город окрестные жители. Среди части жителей пошли, видимо, разговоры о сдаче города. 8 июня Келин сообщил Меншикову: «Ознаймую вашей светлости о жителех: происходит в словах что иное нам непотребно. А не писать – от вашего светлейшества опасен гневу» [4].
8 июня Пётр для спасения Полтавы указал нанести удары с нескольких сторон. Корпус Меншикова должен был переправиться через Ворсклу в двух верстах выше Полтавы. Дивизия Репнина - перейти реку против крепости и выбить шведов из их прибрежных шанцев. Генерал-лейтенанту И.Х.Генскину (Хайнске) предписывалось напасть из-за Ворсклы с юга на городок Старые Санжары, чтобы освободить русских пленных. Келину было указано совершить вылазку на шведские окопы с тыла и соорудить две линии «как галереи» вниз к реке, чтобы между ними был свободный проход в крепость [5]. Коннице князя Г.Ф.Долгорукого и гетмана И.И.Скоропадского предписывалась «диверсия» к Жукам, чтобы «разволочь» силы неприятеля.
Однако грозы и наводнение 11-13 июня сорвали масштабный замысел царя. «Зело счастливо» окончилась только акция Генскина. «Огненный бой» и битва не на жизнь, а на смерть внутри городка продолжались два часа. Штурмующие прорвались за палисады и освободили пленных. 14 июня Г.Ф.Долгоруков с казаками Скоропадского из-за реки Псёл напал на обоз генерал-майора Крейца, сбил противника с поля и гнал его почти до шведской штаб-квартиры в Жуках.
15 июня Пётр решил «перейти Рубикон» - Ворсклу и стать лицом к лицу с Карлом XII. На военном совете положили «город Полтаву выручить без генеральной баталии (яко зело опасного дела)» [6]. Учитывая «сюрпризы» короля, войска предполагалось перемещать, прикрывая их как щитами с трёх или четырёх сторон громадными земляными укреплениями - ретраншементами. Передвижение подобных «земляных щитов» продолжалось вплоть до 25 июня 1709 г.
Генерал-лейтенант К.Э. Ренне с пехотными, конными полками и несколькими тысячами волохов, казаков и калмык в конном и пешем порядке перешёл реку по мостам у д.Петровки. Отвлекая противника частыми вылазками и пушечной канонадой из Полтавы и лагеря из-за Ворсклы, Пётр дал возможность Рённе за ночь над обрывом у д.Петровки соорудить предмостное укрепление из 6-7 окружённых рогатками редутов с валами и флешами. Там засело 3 тысячи пехоты и были пушки [7]. Цель перехода на «шведский берег» и поиск «над неприятелем счастия» состояли не в уничтожении Шведской армии, а в деблокаде Полтавы, освобождении Гетманщины от скандинавской оккупации и вытеснении пришельцев за Днепр.
16 июня Карл XII на 27 году от рождения, между 6 и 7, либо между 8 и 9 часами утра, принял свинцовый подарок («любезность» от русских - как писал он сам). Рана короля всего за десяток дней до шведской катастрофы, беда, которую каролинцы считали судьбоносной, не была случайной. Не шальная пуля выбила Карла XII из строя - ранение стало следствием отвлекающего удара Петра I у д. Нижние Млыны. В этот день фельдмаршал К.Г.Реншёльд с войсками, выстроенными в три боевые линии, подошёл на расстояние пушечного выстрела к редутам у Петровки. Силы шведов превосходили авангард Рённе. Фельдмаршал приказал совершить молитву и ждал только приказа, чтобы сбросить русский авангард с обрыва в Ворсклу [8]. Однако известие о ранении короля если не парализовало, то сковало шведских военачальников. Реншёльд отвёл назад все полки к Полтаве, чтобы сконцентрировать всю армию. Там было очень мало воды, а ещё меньше продовольствия. На 11 дней шведы ушли в глухую оборону, предоставив инициативу русским, которые сблизились со шведским лагерем. Мысль об уходе от Полтавы не покидала шведский генералитет [9]. В штаб-квартире Петра только 25 июня услышали о ранении короля. О замешательстве противника не знали и осмотрительность верховного руководства не ослабла и после 25 июня.
19 июня Пётр перебросил Келину 6 копий своего указа в полых бомбах, в которых писал, что армия уходит к «петровскому мосту» пробиваться к городу с севера. Во время предстоящей битвы полтавчанам предлагалось сделать вылазку. Если шведы к северу от Полтавы выстроят такой же сильный «окоп» как вдоль Ворсклы, то указывалось держаться две недели, а в первых числах июля или позже, уйти за реку «без пожитков».
В час ночи с 19 на 20 июня вся Русская армия поднялась к «петровскому мосту». Пехота и артиллерия перемещалась двумя колоннами. Всех заботила мысль, не будет ли «помешательства» от противника? В голове шли лучшие полки - Преображенский, Семёновский, Ингерманландский и Астраханский, потом дивизия Меншикова, следом - артиллерия. Замыкала колонну дивизия генерала Репнина [10]. С флангов, защищая пехоту и артиллерию, тоже двумя колоннами, следовала конница. По трём бродам и мостам перешли Ворсклу, поднялись по «взвозу» на плато и ночью 20 июня у д.Семёновки тут же занялись заготовкой фашин и устройством фашинно-земляного ограждения вокруг армии.
Реншёльд ничего не противопоставил опасному приближению противника и не соорудил укреплённую «контрвалационную» линию к северу от Полтавы. Утром 21 июня русская кавалерия и пехота стала надвигаться на шведский лагерь. У каролинцев сложилось впечатление, что грянет битва. Состояние короля к этому времени улучшилось и он приказал армии с пушками выстроиться в боевом порядке. Реншёльд до полудня держал под ружьём войска, но нападения не последовало. Указы Петра о маневрировании неизвестны, однако можно видеть, что тактической установкой царя было изматывание шведов ложными выпадами и выманивание их на штурм укреплений [11].
24 июня Пётр приказал находящимся за Днепром украинским казакам И.Галагана и прочих полковников, расставить везде караулы, собрать все перевозочные средства и не выпускать шведов на Правобережную Украину [12].
Подготовка поля к генеральной баталии
25 июня Русская армия из лагеря у д.Семёновки в боевом порядке между часом и двумя дня передвинулась почти на 5 км ближе к неприятелю. Перемещение закончилось к вечеру, чтобы «неприятель не мог принудить к главной баталии, прежде, нежели транжамент будет учинён» [13]. За считанные ночные часы при лихорадочной работе всей армии неподалёку от д.Яковцы вырос новый ретраншемент, оградивший обширную площадь для пехотных полков, артиллерии и боевого обоза. Это прикрывавшее пехоту полевое укрепление, тылом примыкало к высокому обрыву над Ворсклой. При неудаче армия могла отступить вдоль Ворсклы на север и, в крайнем случае, спуститься к реке прямо от лагеря. Можно предположить, что ретраншемент имел форму неправильного многоугольника, как показано на первичных схемах генерала Л.Н.Алларта 1709 г. и плане Я.Шварца [14], а не чёткой трапеции или прямоугольника, как потом вычерчивалось на всех «парадных» схемах. Он состоял возможно, из четырёх бастионов и шести реданов соединённых валами. Конницу расположили на открытом поле между Яковчанским и Малобудищенским лесом за шестью поперечными редутами. В лесу у Малых Будищ подрубили деревья и сделали завалы.
Вечером 26 и в ночь на 27 июня, противники не следили друг за другом. Ни русская войсковая разведка, ни казаки не оповестили о перемещении боевого обоза, больных и раненых (2250 чел.) на 4 км от Полтавы к д.Пушкарёвке и о ночном выходе неприятеля со стоянок. С фронта вагенбурга были поставлены 28 пушек и 2064 всадников. Вокруг рассеялось до 10 тыс. запорожцев и мазепинцев. Кавалерия генерал-майора К.Г.Крейца с 10 июня стояла между деревнями Рыбцы и Пушкарёвка, тоже в 4-5 км западнее Полтавы [15]. Для блокады Полтавы Карл оставил 1100 солдат, для охраны переправ через Ворсклу у Новых Санжар - драгунский полк Мейерфельда (1200 чел), и 2 отряда у Беликов и Кобыляк - всего до 1800 чел. Итого до 7 тысяч шведов Карл XII исключил из предстоящей битвы [16], но путь на юг от Полтавы он держал в своих руках. Вместе с тем Карл и Реншёльд не точно не разведали расположение редутов, их вооружение и общее количество.
26 июня Пётр вместе с генералитетом снова осматривал поле и неприятельский лагерь и принял важное решение, в изрядной мере повлиявшее на победный исход битвы - построить ещё 4 продольных редута по середине прохода между лесками у д. Малые Будищи и Малые Павленки. Строить их было приказано ночью, чтобы об этом не знал противник.
Система редутов не была «Т»-образной. Скошенность линии продольных редутов определялась зарослями, окружавшими прогалину и оврагом у д.Павленки. Все редуты углами направлялись в сторону противника, чтобы с четырёх фасов вести косоприцельный огонь как вперед, так и назад. Эта уникальная система, рассчитанная только для данного рельефа, потом больше нигде не применялась.
Все редуты занял внушительный гарнизон из 6 полков – 4730 чел. На каждый редут приходилось по 400-500 солдат, а на погонный метр фасов не более одного защитника. В каждом редуте стояло не менее двух трёхфунтовых пушек и несколько переносных облегчённых 6-фунтовых мортирок для стрельбы с коротких дистанций [17]. Свою позицию Пётр укрепил лучше, чем в любом другом сражении Северной войны.
Планы сторон
Оборонительный план Петра I предусматривал сдерживание противника на передовых укреплениях, отражение его артиллерией из ретраншемента и фланговые удары пехоты и конницы с обеих сторон лагеря. К 27 июня 1709 г. становилось ясно, что царь выбил основные козыри из рук шведов – лишил свободы маневра и исключил перед боем существенный фактор шведских побед - монарха-полководца. Методикой ударных атак Русская армия уже овладела. Отвлекающих ударов, например Скоропадским в сторону Пушкарёвки или Рыбцов, где стояла шведская конница, или драгунами, казаками и калмыками в направлении Яковцов и монастыря не планировалось. Установка Пётра на численное превосходство своих сил была оправданной. Ему необходимо было учитывать ударную силу Шведской армии, которую русские обрели только к концу XVIII в. Шведская мощь при Карле XII была основана на беспощадных атаках, устоять против которых было крайне трудно, на изобретательной тактике короля, а также на выучке, дисциплине и безукоснительном следовании воинскому долгу каролинцев. Этому Пётр противопоставил, помимо большего количества солдат, огневую мощь и земляные укрепления.
Карл XII кроме наступательной тактики ничего не признавал. Вместо того, чтобы принять бой за укреплениями к северу от Полтавы, которые можно было бы создать, он хотел покончить как с Петром, так и с Полтавой. Нападение обсуждалось только королём, Реншёльдом, Пипером и полковником Г.Х.Сигротом. Они считали, что только решительным натиском можно разорвать русское кольцо. План предусматривал быстрый, ночной выход на исходные позиции к западу от д.Павленки, прорыв сквозь поперечные редуты, отбрасывание неприятельской конницы на север и штурм ретраншемента, который снесёт русскую пехоту в Ворсклу. Шведское командование знало о рвах и валах русских укреплений, но отказалось от фашин и штурмовых лестниц. Без них и без артиллерии, Карл готовился к двум прыжкам - через редуты и через укрепления русского лагеря. Неожиданность должна была снизить потери при прорыве сквозь редуты и вызвать панику в ретраншементе. Возможно, кавалерию король предполагал пустить в обход ретраншемента, чтобы отсечь русскую пехоту от переправ у Петровки. Через три века этот план кажется авантюрным. Было очевидно, что приступ к ретраншементу не обойдётся без кровавых потерь. Король знал об избытке боеприпасов и качестве русской артиллерии. Бросать пехоту на жерла русских орудий казалось безумием. И, тем не менее, кроме четырёх 3-фунтовых пушек он не взял ни одного ствола, хотя за ночные часы 6 км до поперечных редутов можно было пройти и с артиллерией. Впрочем, в плане короля была логика – он исходил из опыта 1700-1708 гг., когда его победы одерживались меньшинством. Несмотря на постоянные бои, переходы и враждебность населения, король мог надеяться на своих солдат, которые были уверены – где король, там победа! Численное превосходство противника не пугало – оно всегда сокрушалось шведской храбростью. Под Нарвой русские укрепления были мощнее, но они были легко прорваны и 145 орудий русским не помогли. Реншёльд под Фрауштадтом в 1706 г., не имея пушек, наголову разгромил саксонцев и русских. Однако начерно, без детальной проработки план не был доведен до офицеров[18]. Никто не предусмотрел, что в глухой темени батальоны и эскадроны, поднимаясь с разных стоянок, будут сбиваться с пути. Выступление можно было сместить и ближе к рассвету – всё равно Пётр ежечасно ожидал нападения. Самый крупный просчёт Карла состоял в поразительном консерватизме и в игнорировании переворота в русском военном деле в 1700-1708 гг. Вина короля в поражении под Полтавой несомненна – его надежда на победу могла осуществиться только в случае, если бы Пётр не выставил артиллерии и укреплений. Судьбу сражения король отдал в руки Реншёльда, оставив себе роль советника, однако почти все приказы фельдмаршал отдавал с санкции короля. Командование пехотой было вручено генералу, испытавшему тяжёлое поражение при Лесной, графу А.Л.Левенгаупту. В нападении участвовало около 21 тысяч шведов [19].
Бой на редутах
27 июня предстояло выяснить, возьмет ли верх ставка Карла на стремительность, или замысел Петра раздробить битву на отдельные бои, сдержать противника на передовых рубежах и нанести ему поражение при защите ретраншемента. В ночь перед битвой поведение противников было разным – шведы стихли, на русских позициях трещали сотни костров и возбуждённо крепилась оборона. Особенно лихорадочно работали на ближних к шведам редутах, которые решили делать меньших размеров. О конкретных распоряжениях Петра в ночь перед баталией и позже мы не знаем и о них приходится судить по действиям войск.
Около часу ночи [20] шведские колонны пошли на запад, потом свернули на север к русскому лагерю. Пройдя часть пути, был подан сигнал стой, после чего четыре колонны пошли медленнее и тише, почти крадучись. В шестистах метрах от редутов пехота остановились, чтобы дождаться конницы. На путь к исходным позициям длиной всего в 3,5 км она затратила почти два часа! С редутов, хотя едва забрезжило, её не было видно. Всем было позволено сесть.
Кавалерия Крейца прибыла, когда видимость была вполне сносной [21], шведов заметили и по четырёхкилометровой русской позиции прокатилась барабанная дробь тревоги.
Прорыв сквозь поперечные редуты должны были совершать две боевые линии, которые в спешке начали выстраивать. Но тут увидели новые продольные редуты в промежутках между которыми и на флангах стояла как пехота, так и конница» [22]. Реншёльд был одним опытнейших полководцев тогдашней Европы. Обладая развитой интуицией, он почуял неладное и сказал, что всё расстроилось. Встал вопрос об отмене нападения. Фельдмаршал начал советоваться с королём и Пипером продолжать ли наступать? Никаких ретирад Карл XII не признавал и было принято решение перестроиться снова в колонны. Головные батальоны двух средних колонн нападут на продольные редуты и обеспечат свободный проход остальным. Король с драбантами занял место при лейб-гвардии и Реншильд бросил шведскую традиционную команду атаки «го по!» («вперёд!»).
Около 4 часов утра, когда стало совсем светло и показался краешек солнца, шведы двинулись навстречу ядрам и пулям. Контрприказ не дошёл до всех и часть полков пошла в боевом, часть в походном порядке.
На недостроенные редуты слева и справа накатились 4 батальона Вестерботтенского и Далекарлийского полка. Рогатки там, может быть уже стояли, но рвов почти не было. Сопротивление защитников и частей прикрытия крайних 9-м и 10-м редутов на несколько минут задержало два шведских полка. Оставлять там команды или тянуть за собой трофейные пушки Карл не собирался - вперед и только вперёд, не давать русским опомниться!
Очередной 8 редут окружили 6 батальонов четырёх полков (2600 чел.), но пятикратное превосходство не напугало его защитников. 400-500 солдат этого редута совершили подвиг – не только отбились, но отбросили эти батальоны вместе с 12 эскадронами Шлиппенбаха в Яковчанский лес.
В это время Пётр на шведскую пехоту бросил конницу А.Д.Меншикова и К.Э.Рённе. Контратака должна была сдержать наступающих, пока русская инфантерия будет выводиться на стороны ретраншемента. Напор драгун вызвал смятение – шведские эскадроны пытались по одному протиснуться на помощь пехотинцам, в беспорядке выходили вперёд, опрокидывались и заворачивали обратно. Как только драгуны освобождали зону обстрела, с редутов гремела картечь, а затем свинец из ружей хлестал батальоны с фронта, боков и тыла – с редутов, оказавшихся сзади. Бой на редутах более чем на час сдержал армию короля и привёл её в расстройство. Карл и Реншёльд временно потеряли управление войсками.
Меншиков, почуяв силу редутной системы, угадал растерянность противника и был уверен, что удержит всю Шведскую армию, если его подкрепят пехотой. Но Петр не хотел рисковать и менять замысел. Вся тяжесть сражения должна происходить перед ретраншементом, в котором были основные силы армии и артиллерии. Кавалерии было предписано «помалу» отступать и у ретраншемента раздвинуться в стороны, чтобы можно было стрелять из пушек. Выполняя приказ, русские драгуны медленно отходили [23]. Со стороны шведов это выглядело так: «Пехота следовала за неприятельской кавалерией, которая шла тихо. Неприятель высылал из эскадронов людей, стрелявших по батальонам. Я предложил ближайшим офицерам выслать вперед несколько солдат со штуцерами. Это заставило неприятеля прибавить шагу»[24].
Князь извещал, что разворачивать эскадроны, когда шведская конница находится рядом - опасно. Выдержать медленный темп отхода можно было только при поддержке пехоты. Пётр отозвал «светлейшего» и вручил командование генерал-лейтенанту Р.Х.Боуру, который стал повёртывать конницу. Случилось то, чего опасался Меншиков: всадникам пришлось почти 3 км отрываться полным галопом и проскочить мимо ретраншемента. Сложилось впечатление, что драгуны бегут. Эти минуты между 5 и 6 часами утра, может быть, были самыми тревожными для Петра.
Правое крыло кавалерии Крейца под завесой пыли и дыма пронеслось мимо стрелявших орудий. Отсечь его от русской конницы стрельбой было невозможно и Крейц остановился только перед балкой Побыванкой. Шведы сочли это первым успехом. Оторвавшись от противника, Боур развернул всадников кругом и построил их за балкой. Драгуны Петра I оказались в двух километрах от пехоты, но самого опасного не случилось – Крейц не сбросил их в Ворсклу. Большинство из 973 погибших драгун [25] пало у редутов и при отступлении. При редактировании «Гистории Свейской войны» Пётр выправил впечатление от ретирады, которая случилось якобы из-за тяжёлой раны Ренне и из-за того, что не успели перебросить пехоту к редутам [26].
В это время левая часть шведской кавалерии, теряя людей и лошадей, проходила между поперечными редутами и с трудом продиралась через хатки, плетни и лесные завалы в чащобе у Малых Будищ. Шведское конное войско долго не могло прийти в себя, потом оттянулось в болотистое место перед д. Иванченцы, очутившись тоже в отрыве от своей пехоты. Вслед за всадниками на поле, где крупными соединениями, где частями и отдельными батальонами, стала вырываться шведская пехота, подгоняемая в спину пальбой из редутов. В грохоте, дыму и пыли ни Реншёльд, ни Карл не могли заметить, что часть пехоты отстала.
Бой на редутах к 6 часам утра был выдержан так, как предвидел Петр I, хоть и с огрехом в конце. Прорыв же короля был оплачен большой кровью и с отсечением трети пехоты. На правом фланге под рукой графа Левенгаупта осталась только правая колонна, стремившаяся как можно быстрее выскочить из зоны огня. Между 5 и 6 часами утра эта колонна, поджимаясь всё правее, прошла за поперечные редуты. К ней присоединились 3 и 4 батальоны гвардии, которым пришлось проходить между крайними «крепостцами». Карл XII находился среди гвардейцев. Ядро из ретраншемента, едва не поразив короля, разбило правую штангу качалки, которую пришлось подправлять прямо на поле. Когда качалку привели в порядок, Карл XII с Эстгётским полком пошел вперед во второй колонне [27].
Проезжавшему мимо Реншёльду Левенгаупт прокричал, что надо дождаться левого крыла пехоты, но тот категорически ответил: «Нет, нет, нельзя давать врагу передышки!». Видимо, он надеялся, что остальные батальоны вот-вот вырвутся и хотя бы разновременно атакуют ретраншемент. Левенгаупт привёл в порядок свои потрепанные 6 батальонов и повёл их к южной стороне русского лагеря. По шведским историческим трудам вот уже третий век кочует гипотеза о второй возможности шведской победы. Выйдя на левый фланг лагеря, граф якобы счёл его слабо занятым, заметил спешное запрягание повозок и даже уход части сил за Ворсклу! (Русло реки за обрывом в районе лагеря находилось на расстоянии в 1,5-2 км) [28]. Позже в плену в Москве генерал, чтобы подчеркнуть свою роль в битве, критиковал Реншёльда - если бы его поддержала кавалерия и другие батальоны, а фельдмаршал не приказал прекратить его атаку, то русские бежали бы за Ворсклу!
Батальоны графа не могли напугать Петра. Он учитывал приступ всей армии противника и готовился отражать его 87 пушками и ударами пехоты с флангов ретраншемента [29]. Когда Левенгаупт приблизился на дальность картечного огня, Петр через Брюса дал команду полковым и полевым орудиям открыть ураганный огонь картечью, Никогда за всё время Северной войны шведы не встречали такого мощного отпора. Пускать в дело русскую пехоту не пришлось.
Полтавское поле имеет слабый уклон к деревням Иванченцы и Малые Будищи. Там была неглубокая, заболоченная ложбина. Чтобы укрыть шведов от огня, их пришлось уводить по низине как можно севернее, за 3 км от редутов и за 2 км от русского лагеря, почти к Тахтаулову [30]. Заслуга русской артиллерии в первый период битвы состояла не только в том, что она нанесла урон противнику, но и в том, что отбила шведов далеко на север в неудобное болотистое место.
Пётр мог быть доволен исходом первого периода битвы. Часть шведской пехоты скрылась у Яковецкого леса; Левенгаупт был отбит; разрозненные части левого крыла шведов, скрылись в «логовине»; туда же с трудом добралось левое крыло кавалерии Крейца. Гарнизоны редутов С.В.Айгустова, конница А.Д.Меншикова, К.Э.Ренне и Р.Х.Боура, артиллерия Я.В.Брюса. разбросали пять осколков армии короля в разные стороны. Наступательный план Карла ХII провалился и наметился перелом битвы.
Тяжёлые потери, пропажа колонны Рууса и смятение людей заставили Карла и Реншёльда около 6 часов утра собирать разрозненные части пехоты и конницы. Прекращение атак, ранее немыслимое для Шведской армии, было разумным распоряжением Реншёльда и Карла XII. «Мы начали сомневаться, что делать дальше» [31]. Реншёльд приказал, чтобы из Пушкарёвки прислали помощь и пушки [32]. В тягостном ожидании бессмысленно тратилось время. В боевые линии Шведская армия не строилась [33], она была окружена - на востоке стоял огромный лагерь русской пехоты с 87 пушками, на юге вызывавшие содрогание редуты, на севере - готовая к бою кавалерия Боура, на западе путь через Малобудищенский лес блокировали казаки Скоропадского, часть которых переместилась от Малых Будищ к Тахтаулову. Хотя противник был в разброде, удар по нему не был возможен [34]. Петру приходилось учитывать, что его кавалерия оторвана от пехоты, что состояние армии короля неясно, что появились сведения о «корпусе резервы» в 3000 чел. у Яковецкого леса. Пётр полагал, что за редутами есть еще и другие силы кроме тех, что ушли в логовину к Малым Будищам. Потрёпанные батальоны Рууса и шведский «корпус резервы» принимались за разные соединения [35]. Установка царя вплоть до 6-7 часов утра состояла в том, чтобы принять противника на подготовленных к обороне позициях.
Против неизвестного по численности неприятеля (у Рууса к тому времени оставалось около 2100 чел. среди которых было много раненых) Пётр отрядил 5 батальонов под командованием Меншикова и генерал-лейтенанта С.Ренцеля (2 486 чел.) и 5 полков кавалерии под командованием Генскина. Рууса добили и последние его остатки при поддержке Келина из Полтавы капитулировали около 14 часов в большом редуте гвардии на берегу Ворсклы.
Генерал-майор А.Г.Волконский с Каргопольским, Смоленским, Троицким, Ямбургским полками и с шестью драгунскими полками был переброшен к деревне Жуки к И.И.Скоропадскому «для наблюдения за неприятелем». Нападение этими силами на шведский обоз не предусматривалось.
ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУТ
1. Уредссон С. Карл XII // Царь Пётр и король Карл. Два правителя и их народы. М., 1999. С.40-42. См. также: Svensson A. (Redaktör). Karl XII som fältherre. Stockholm, 2001.
2. Артеус Г. Карл XII и его армия // Царь Пётр и король Карл. Два правителя и их народы. М., 1999. С.157-163.
3. Gyllenstierna N. Nils Gyllenstiernas berättelse // Karolinska krigares dagböcker (KKD). Lund, 1913. S.
4. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф.17. Оп.1. Д.91 доп. Л.357.
5. Письма и бумаги императора Петра Великого (П)
6. Гистория Свейской войны. (Подённая записка Петра Великого) (ГСВ). М., 2004. Вып.1. С.301.
7. Siltmann D.N. “Volontären” vid Svenska armen preussiske öfverstlöjtnanten baron D.N. v.Siltmanns dagbok 1708-1709 // KКD. Lund, 1907. T.3. S. Adam Ludwig Lewenhaupts berättelse med bilagor. Stockholm, 1952. S.
8. «Его превосходительство фельдмаршал Реншёльд вывел большую часть Шведской армии на поле между деревнями Жуки и Петровка. С ним был запорожский гетман Мазепа с частью своего воинства. К этим деревням на 2 ¼ мили по правому берегу реки растянулся ретраншемент противника… Около полудня получили весть о ранении Его Величества и сообщение, от него, что фельдмаршал может поступать так, как сочтет нужным - либо напасть, либо отступить. Был отдан приказ уйти обратно в лагерь оставаясь в полной боеготовности». Генерал-майоры во время совещания указали на невозможность атаки и вообще высказались за снятие осады Полтавы. - Op. cit.,
9. «По моему мнению, ничего не остается королю, как снять осаду и найти для армии хорошие квартиры. Если же этого не будет, нам грозит большое несчастие. Или король будет убит, потому что он подвергает себя всем, опасностям, а это тревожит и рядовых, и офицеров, которые, как я сам слышал, говорят между собою: Король хочет быть убитым; или, если неприятель решится подать помощь Полтаве, сражение может иметь для нас несчастный исход. В таком случае, мы все погибли, ибо, без особенного счастья, никто отсюда не выйдет, так как мы отдалены от отечества на несколько сот миль». Гилленкрок А. Современное сказание о походе Карла ХII в Россию // Военный журнал. 1844. № 6. С.102.
10. «Исход дела показал, что переход противника через Ворсклу преследовал цель не атаковать нас, но как можно основательнее окопаться и ждать нашего нападения». - Löjtnanten Fr.Chr. von Weihes dagbok 1708-1712 // Historiska handlingar. Stockholm, 1902. Del 19. N 1. S.
11. ППВ. Т.9. С.218,222.
12. ГСВ. Вып.1. С.301.
13. См. Гольденберг Л.А. Картографические источники XVIII в. о военных действиях в 1708-1709 гг. // Полтава. К 250-летию Полтавского сражения. Сб.статей. М.,1959. С.384 -385. Полтавский историк В.А.Молтусов в кандидатской диссертации собрал несколько малоизвестных карт, относящихся к периоду Полтавской битвы, которые существенно проясняют инженерную подготовку поля сражения. – Молтусов В.А. Полтавская битва. Новые факты и интерпретация. Харьков, 2002. Приложения 1-15..
14. Васильев А.А. О составе русской и шведской армий в Полтавском сражении // Военно-исторический журнал. 1989. № 7. С.61-64.
15. Karl XII och kapitulationen vid Perevolotjna // arolinska förbundets årsbok (KFǺ)..98.
16. Кротов П.А. Полководческое искусство Петра I и А.Д.Меншикова в Полтавской битве. (К 300-летию Полтавской победы) // Меншиковские чтения 2007. Санкт-Петербург, 2007. Вып.5. С.62-65; его же: Полтавская битва: новые материалы по спорным вопросам. (В печати)
17. «Я не знал, хорошо ли разведана позиция противника, где, как, и точно ли фельдмаршал собрался атаковать неприятеля; как конница станет поддерживать пехоту и действовать, где и как будет расставлена наша артиллерия, как [нам] проходить - слева или справа от редутов, или мы должны сначала штурмовать их?». - Op. cit.,
18. При капитуляции шведов в Переволочне было пленено 14267 чел. (с нестроевыми 16264), бежало с королём через Днепр около 1300 чел., под Полтавой насчитали 9234 убитых и 2973 пленных. Итого получается около 28 тысяч человек. За вычетом больных и раненых, прикрытия, оставленного у пушкарёвского обоза, на переправах Ворсклы и в траншеях под Полтавой, на битву Реншёльд выводил около 13 тысяч пехоты и 8 тысяч кавалерии.
19. From P. Katastrofen vid Poltava. Karl XII: ryska fälttåg 1707-1709. Lund, 2007.S .307-309.
20. Вполне вероятно, что пехота вышла на исходные позиции около 2 ч. 30 м., а кавалерия около 3 ч. 45 м. - Теngberg.E. Karl XII och Ryssland. Studier rörande ryska fältågets slutskede // Historisk arkiv. 1958. n 7. S.35.
21. Op. cit.,
22. «А кавалерии такой дан был указ, что ежели неприятель за нею погонитца, то б уступала до самого ретранжамента. А ежели он ещё и далее за нею пойдёт, чтоб она роздвинулась направо и налево перед ретранжаментом, дабы ис пушек по них стрелять было возможно, как то случилося». - Так писал Л.Н.Алларт.- РГАДА. Каб. ПВ. Ф.9. Кн.13. Л.62 об..
23. Гилленкрок А. Реляция шведского генерал-кваритирмейстера и полковника барона Гилленкрока. Сражение при Полтаве // Военный журнал. 1845. № 3. С.93.
24. Кротов П.А. Полтавская битва 1709 г.: цена победы и поражения // Меншиковские чтения 2008. СПб., 2008. Вып.6. С.58.
25. «…наша ковалерия…многократно конницу неприятельскую збивала. Но всегда от пехоты неприятелская конница сикурс получала (и притом генерал-порутчик Рен в том жестоком бою ранен), а нам так скоро ис транжамента пехотою своей ковалерии выручить тогда было невозможно. Того ради дан указ генералу-порутчику Боуру, дабы оной с ковалериею уступал вправо от нашего ретранжамента, дабы тем время получить к вывождению нашей пехоты из ретранжамента. Однако ж приказано оному крепко того смотреть, чтоб гора [обрыв над Ворсклой] у оного во фланке, а не назади была, дабы неприятель не мог нашу ковалерию под гору утеснить». - ГСВ. 1. С.302.
26. From P. Op. cit., S.323-324.
27. Adlerfeld G. Leben Carl des Zwölften, König von Schweden. Frankfurt und Leipzig, 1742. Bd.3.
28. 1748. S.271. «Эффективный кавалерийский удар, храбрый напор пехоты и быстрое приближение [Левенгаупта] к русскому лагерю произвело сильное впечатление на царя и его генералов. После победы царь говорил перед шведскими пленниками, что он в тот момент готов был выйти из борьбы. Но шведы не стряхнули готовое упасть яблоко. Рок, военный азарт и чрезмерные шведские ошибки быстро сняли появившийся оптимизм. Внезапно пришёл приказ к недоумевающему Левенгаупту, что он должен отвести свои батальоны налево от русского лагеря» From P. S.321.
29. «В то ж время ис транжамента на обе стороны выведена на фланки пехота для того, ежели б неприятель атаковал транжамент, чтоб свободно из оного стрелбе быть мочно было, а выведенным на стороны со флангов оного атаковать». - ГСВ. Вып.1. С.302.
30. «И тако неприятель… в некотором логу (далее пушечной стрельбы) в парат стал к лесу» - ГСВ. Вып.1. С.302.
31. Lewenhaupt A.L. Op. cit., S.240. Мысль отказаться от сражения была и у Пипера.
32. Артиллерии на путь в 9-10 км от Пушкарёвки вокруг Малых Будищ потребовалось бы не менее 2,5-3-х часов. То есть предполагался отказ от боя, по крайней мере, до 9 часов утра при условии, что русские не осмелятся ничего предпринять.
33. «В конце-концов мы застряли на месте, перемещаясь то туда, то сюда и все проявляли растерянность. Такой нерешительности войска никогда раньше не показывали, а в это время неприятель всё время вытягивался из своего ретраншемента и в очень хорошем порядке выстраивал против нас ордер баталии. - Lewenhaupt A.L. S.241.
34. «Неприятельская кавалерия стояла построенная по другую сторону небольшого болота и предполагала напасть нашей в тыл» - N.Gyllenstierna. Op. cit., S.90
35. Даже 9 июля, когда можно было узнать от пленных, что шведского резерва у Яковецкого леса не было, в «Обстоятельной реляции» писалось, что царь послал Меншикова и Ренцеля к Полтаве дабы еще в сукурс неприятелю идущия войска, також и в шанцах оставшегося неприятельского генерал-маеора Роза с неприятельскими войски атаковать и помянутый город от блокады освободить». – ППВ.Т.9. С.259.



























