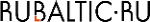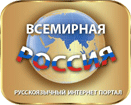"Коллекционирование – это не бизнес, а бесконечные жертвы"
Убежден князь Лобанов-Ростовский
В справочнике "Who is Who in the World" Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский представлен как банкир, автор книг по капиталовложениям, советник алмазной компании DE BEERS и известный коллекционер. Русское аристократическое – большая редкость в мире международного бизнеса. Также трудно найти на Западе человека, который столь много сделал для славы русских художников. За последние тридцать лет коллекция Лобанова-Ростовского побывала во многих странах мира – от Америки до Японии. Около 500 работ он подарил музеям и библиотекам. У князя нет наследников, и он решил продать свое собрание целиком, но не в частные руки, а общественному музею. В 50-60-х годах, когда начал покупать работы дягилевских художников, они стоили гроши – 25-30 долларов. Сегодня уникальная коллекция оценивается уже в миллионы. Казалось бы, это прекрасный пример того, что инвестиции в искусство – выгодный нес. "Напротив, – говорит Лобанов-Ростовский, – коллекционирование требует бесконечных жертв".– Расскажите о жизни вашей семьи в эмиграции. Почему после революции Лобановы-Ростовские попали не в Париж, как многие "бывшие", а в Софию?
– Таков был выбор моего деда, главы семьи. Для него было важно, что в Болгарии существовала монархия, правил царь Борис, а в соборе Александра Невского по воскресеньям пел великолепный хор софийской оперы. Без музыки дед Иван жить не мог. Покидая Россию, он не заботился об имуществе. Взял с собой только скрипку Страдивари. Бабушке удалось спасти фамильные драгоценности и несколько портретов.
– Не приходила ли вам в голову мысль о возвращении конфискованного имущества?
– Я бы не хотел стать владельцем домов, принадлежавших моим предкам, по финансовым причинам. Дом перед Исаакием в Петербурге, занимает целый квартал. В нем около 400 комнат. Его содержание обошлось бы мне в один миллион долларов ежегодно. За такие деньги можно припеваючи жить в роскошной вилле где-нибудь в Монте-Карло. В России жить трудно. Я бы не смог. Но материальные следы, сохранившиеся от рода Лобановых-Ростовских, заставляют меня чувствовать свою кровную связь с историей и культурой России и болеть за нее, так же как и за Болгарию, где я ребенком стал зэком, но где остались дорогие для меня могилы.
– Эмигрантские пути-дороги всегда печальны, но вашу семью репрессии советского режима настигли и за границей. Вам выпало пережить смерть близких, нищету и голод...
– После войны в Болгарии начались репрессии. Наш побег не удался, схватили на границе с Грецией и посадили всю семью в тюрьму, в разные камеры. Паек был скудный, и я заболел дистрофией. Меня выпустили, чтобы я не умер в тюрьме. Квартиру нашу конфисковали, и я бродяжничал по улицам Софии. В 11 лет я научился воровать. Носил мешок из-под лука, прорезав в нем дырки. Зарабатывая на хлеб, я чистил сапоги "товарищам". Собирал окурки, выбивал из них табак и на вес продавал цыганам. Родителей выпустили из тюрьмы. Но в 1948 году, спустя год после заключения, отец исчез. Вышел за молоком и не вернулся. Его отправили в истребительный лагерь и расстреляли. Моя мать умерла от рака, когда мне был двадцать один год.
– Без денег и связей вы смогли поступить в Оксфорд?
– Мне повезло: какой-то благотворитель учредил стипендию для беженцев из Восточной Европы. На нее претендовало 25 человек. Мои шансы были равны нулю, но приняли именно меня. Я выбрал профессию инженера-геолога.
– Однако вы уехали в Америку и стали банкиром?
– Я искал нефть в Патагонии, ртуть на Аляске и в Тунисе, железо в Либерии, никель в Венесуэле, работал в США и Южной Африке на алмазных разработках, но мало что с этого имел. Я понял, что геологи никогда не руководят нефтяными и алмазными компаниями. И тогда в письме своему товарищу, который учился в школе бизнеса в Стэнфорде, я спросил: "Как на Западе можно сделать состояние?" Он принял мой вопрос всерьез и ответил, что есть три способа: брак по расчету, работа в престижном инвестиционном банке (здесь нужен блат или связи) или делать карьеру в банке, начиная с самой нижней ступеньки, с клерка. Я выбрал последнее. После Оксфорда я продолжил образование в Америке. В Колумбийском университете получил степень магистра экономической геологии, а в Нью-Йоркском университете – степень магистра банковского учета.
– Что подтолкнуло вас к коллекционированию театральной живописи?
– Этот огонь во мне зажег Ричард Бакл, театральный критик. В 1954 году он организовал в Лондоне выставку, посвященную Дягилеву. Моя крестная мать Екатерина Лемперт, внучка графа Бенкендорфа, повела меня на эту выставку. Тогда я впервые увидел живопись Бенуа, Бакста, Гончаровой всех двадцати двух художников, работавших у Дягилева. Я был сражен палитрой красок, динамичностью театральных композиций и русскостью их содержания. После долгих лет нищеты мне страстно захотелось окружить себя этими чудными картинами. В тот момент карманы мои были пусты, но в 1959 году, когда я стал подрабатывать в Колумбийском университете как переводчик, я купил эскизы костюмов Сергея Судейкина к балету "Петрушка" по $25 за штуку.
– Сегодня у вас более тысячи произведений 47 художников, работавших для театра, – от Бенуа до Малевича. Эксперты считают вашу коллекцию самой крупной частной коллекцией сценографии. Как вам удалось собрать ее, не располагая большими средствами?
– Сомерсет Моэм дал мне хороший урок. В поисках картин Гогена он поехал на Таити, где жил сын художника. Он увидел двери хижины, расписанные Гогеном. В качестве благодарности за гостеприимство Моэм предложил заменить старые двери на новые. Заплатил плотнику и забрал с собой чудесную живопись Гогена. Эта история подсказала мне, что искусство надо искать там, где оно создавалось. Мне удалось побывать в семьях Бенуа, Добужинского, Экстер, Ларионова, Гончаровой, Судейкина, когда их живописью никто не интересовался. Все самые качественные вещи мы с женой покупали, когда еще не было ажиотажа. Выбор был за нами. Вот почему известный специалист по истории русской живописи профессор Джон Боулт сказал о наших картинах: "Сегодня, имея даже неограниченные средства, нельзя составить такую коллекцию". Мне повезло, как повезло Костаки с авангардом. Он был рыболовом, который сидел один в лодке на середине озера. Когда все увидели, какой большой рыбы он наловил, бросились за ним, но им досталась одна мелочь.
– В процентном отношении какая часть вашей коллекции приобретена без посредников?
– Не меньше 90%. Когда мы начинали, в магазинах и на аукционах русское искусство не продавалось. Мне пришлось многие часы провести за самоваром, разговаривая по душам с еще живыми художниками, их женами, любовницами и наследниками. Посчастливилось познакомиться с вдовой Ларионова госпожой Томилиной. Она ненавидела первую жену своего мужа Наталью Гончарову и после смерти старалась как можно быстрее избавиться от ее картин. И это было находкой. А вот с картинами Ларионова она не хотела расставаться, даже когда он умер. С большим трудом я уговорил ее продать большие эскизы костюмов в 1964 году. Несколько лет назад была опубликована переписка Ларионова, где я нашел поразительные строки: "Наши театральные работы мы продаем по два доллара. Будьте так добры, пожалуйста, их купите". Работы Экстер в начале шестидесятых мы покупали у ее наследника Семена Лисима. Он расставил их перед нами: выбирайте, другого случая не будет. И мы купили все, что нам хотелось. Семен разрешил самим назначить цены. Я тогда только женился, и средства у меня были скудные. Мог дать только $30 за эскиз. В 1962 году мы с женой предложили в дар музею в Филадельфии несколько картин Экстер. Нам ответили: мы такого художника не знаем. А в 1986 году на аукционе SOTHEBY's картину Экстер продали более чем за миллион долларов.
– Дягилевские антрепризы имели громадный успех цен. Почему западным коллекционерам понадобилось так много времени, чтобы оценить русских художников?
– На Западе не было ни коллекций, ни книг, объясняющих их значение в контексте мирового искусства. В СССР нельзя было писать статьи о "Мире искусства". Владельцы, боясь ареста, прятали их картины под кроватями и на чердаках. Иностранцы, приезжая в Россию, не имели возможности познакомиться с русским искусством эпохи модернизма. Выставки в мировых музеях, каталоги открыли глаза иностранцам. Цены за последние 35 лет выросли в десятки раз, главным образом, потому что оно попало в сферу интересов SOTHEBY's. Спрос на русское искусство растет, а хороших картин на рынке мало. Отсюда бешеные цены.
– Значит, благодаря вашим картинам вы заработали громадное состояние?
– Это ошибочное представление, будто бы коллекционирование – выгодный бизнес. Для нас с Ниной это всегда были большие жертвы и сознательный риск. Процесс собирания русского искусства за рубежом всегда вносил в мою душу некоторое ощущение обреченности. Я понимал, стране, которой принадлежит это богатство, оно не нужно. Но я был счастлив уже от одной мысли, что заношу нечто очень ценное в Красную книгу, и теперь оно не исчезнет без следа. Мной руководила не идея заработать, а желание показать эгоцентричному Западу, живущему в страхе перед агрессией коммунистического СССР, другую Россию. Исполненную цвета, радости, тепла и человечности. Приобретение каждой новой вещи всегда было связано с определенными ограничениями. Нина никогда не покупала себе модные платья, мы не ходили по ресторанам и не тратили деньги на развлечения.
Содержание коллекции требует больших расходов. У нас более тысячи картин, которые постоянно путешествуют по миру. Их нельзя развесить в нашем лондонском доме.
Они хранятся на складах компании HASENKAMP в Кельне и Гамбурге. За это надо платить. Раз в два года SOTHEBY’s делает товарную оценку нашего собрания для страховки. Получается большой том в двести страниц. Если просмотреть эти тома за последние тридцать лет, можно увидеть, что стоимость коллекции – величина не постоянная. Антикварный рынок живет циклично, бывают всплески и падения цен. Для страхования выставки в Греции специалисты SOTHEBY's недавно делали оценку наших картин: 350 работ – это 3,5 тонны груза в 28 ящиках – 6 миллионов долларов. Страховка всей коллекции обходится нам в 25 тысяч долларов в год. Надо платить за реставрацию, за издание каталогов. В 1994 году вышел каталог (весом в три кило) нашего собрания в Москве, он обошелся мне в 40 тысяч долларов.
– Министерство культуры РФ хотело купить ваше собрание для Музея личных коллекций. В газетах много писали об этом. Почему же сделка не состоялась?
– Речь шла не о коллекции в целом, а только о двухстах работах, отобранных закупочной комиссией с нашей выставки в Музее личных коллекций. Ирина Антонова, директор ГМИИ, проявила большой энтузиазм и решилась даже потратить все деньги, какие были на счету музея в то время, в 1994 году. Формула предложения была такая: 500 тысяч долларов сразу, а затем в течение трех лет выплачиваются по 500 тысяч долларов ежегодно. Я согласился на рассрочку платежей только потому, что был рад поместить часть собрания в хорошие руки. Чтобы принять окончательное решение мне нужно было подтверждение банка, гарантирующее платежеспособность музея. Сроки нашей выставки в Музее личных коллекций прошли, работы надо было отправлять в хранилище в Германию, а подтверждения от банка я не дождался.
– Вам делали более выгодные предложения?
– За все работы с выставки в Москве Мартин Мюллер, владелец галереи MODERNISM в Сан-Франциско, предложил мне 5 миллионов долларов. Он приехал в Лондон оговорить условия, но мы с женой не смогли их принять. Он не стал скрывать от нас своих намерений. Честно признался, что покупает выставку оптом, чтобы с выгодой для себя распродать работы поодиночке. Это его бизнес. К сожалению, я не Лоренцо Медичи и не могу подарить коллекцию в какой-нибудь музей. Она имеет определенную идеологию, научный смысл. Собирая ее, нам важно было воссоздать историю русского театрального дизайна с 80-х годов XIX века по 50-е годы XX века, то есть периода расцвета. Ради этой идеи мы с профессором Джоном Боултом двадцать лет изучали этот предмет, подготавливая каталог нашего собрания. Мы не хотим разбазаривать то, что с большими жертвами создавали всю жизнь.