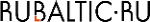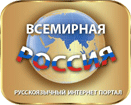Кому отдать гранатовый браслет?
Зигзаги судьбы Александра Куприна
Жизнь людей творчества – это всегда лакомство обывателям. Посудачить, сплетничать горазды все, но ведь и писатель – живой человек, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон... Нелегкой ценой доводится выстрадать сладкие секунды озарения. И Александр Иванович Куприн судьбою своей доказал, что все "блага" позолоченной клетки не способствуют литературной работе – зато на приволье, вдали от чопорных городов расцветал талант писателя. Нельзя все охватить – поэтому лишь несколько штрихов...Черный туман
Бывший армейский поручик, актер и предприниматель, репортер, скиталец по Руси Александр Куприн в 1901 году приехал в Петербург. Паршивый номер в замызганном "Пале-Рояле" и вдруг... Блестящая, казалось бы, женитьба. "Куприн влюбился в громадную здоровенную бабу", – съехидничал Чехов. Сосватал Марию Карловну Давыдову для Куприна не кто иной как Бунин... "Нет, жизнь не кончена в тридцать один год", – сказал бы по этому поводу князь Андрей у Толстого. Об этом вспомнилось Куприну, когда он отошел от окна, оставляя на затревоженном стекле след дыхания... Тридцать один – роковой перевертыш числа "тринадцать", вот и ему уж тридцать один. А ей... И он уже не обращал внимания на противную возню, хамский стук дверей в коридоре, жеребячье ржание подвыпивших постояльцев. Иная жизнь была реальностью – то барское бытие в квартире во весь этаж, властная и чопорная хозяйка – издательница журнала. Но не она была гвоздем программы. Дочь ее – двадцатилетняя Муся Давыдова – востроглазенькая, насмешливая, кроткая.
Можно было подумать – польстился на журнал начинающий автор. А вот и нет – то было трепетное чувство. Тем более, что и сама издательница была баба не промах. Придет, допустим, Мамин-Сибиряк: авансу б. Она в ответ: а даже и помрите, Дмитрий Наркисович, не дам ни копейки пока рассказ не напишете – вот вам пока три пива.
Мамин-Сибиряк тут неспроста упомянут: его свояченица Лиза жила в доме Давыдовых...
А дворами, а дворами – нет, не сразу, нет не вдруг гулко ухает дверями – этот старый Петербург... Как рано юная жена писателя впитала якобы великосветские условности – жеманство, режущую ухо отточенность правильных фраз. И вот... Зеркала, электричество, экипажи на дутых шинах, вилка слева, нож так справа... Ты этого хотел? Сонное мерцание хрусталя, оловянные глаза прислуги – он не заметил, как вдруг все это стало раздражать его до бешенства. Намного вольготнее было Куприну среди конокрадов, пьянчуг и контрабандистов, нежели в кругу сей фальшивой и чопорной публики. "Люблю бывать среди всякой сволочи, она много занятнее вашего приличного общества, мне иногда даже приятно вспомнить, среди каких прохвостов я бывал". А тут фаты на чинных обедах глядят на писателя, будто он козявка в кунсткамере! Экий, мол, увалень явился из степей на готовенькое – мужлан неотесанный... Сергеев-Ценский раз вальяжно стал пенять Александру Ивановичу на видимые ему недостатки купринской прозы. Был раут – язвительная беседа шла вблизи накрытого стола. В канонах приличий надо было улыбаться – Александр Иванович молча намотал на кулак край скатерти – вся сервировка вдребезги.
Лестно было приручить могучего вольнолюбца – превратить в покорного хозяйке дома жантильного обожателя, но как на медведя надеть шлепанцы? Только если превратить его в чучело!
В этом весь Куприн. Ему не по душе был Петербург. Зато расцветал на приволье – в Сиверской, Териоках, Гатчине... "Черный туман Петербурга, – говаривал Куприн, – поглощает мои творческие силы. Чтобы сесть за письменный стол в этой угнетающей меня серой мгле я должен делать героические усилия воли". И в Питере он все чаще стремился улизнуть из-под опеки фельдфебельствующей супруги. Он и салон в ее доме были несовместны. Все чаще между ними были ссоры. Раз она заметила, что одна из сцен "Поединка" перекликается с Чеховым. Куприн в клочья изорвал рукопись – шесть глав! И ушел к своим сомнительным приятелям. Она всю ночь ползала на карачках, собирая ошметки манускрипта, потом чуть ли не полгода склеивала... Но не все было можно склеить.
Для приличного общества их союз как бы уже и не существовал. Мог ли он терпеть, чтоб за него что-то решали? Его вспыльчивость не знала границ – но как упрекать писателя за это, ведь он тогда бы был амебой – не творцом.
А бешенство его не знало иногда предела. Однажды ехал в поезде на дачу – с дочкой и женой. Пара господ в купе как по команде извлекли сигары и пыхтят. Писатель обратился к ним: помилосердствуйте! Ребенок ведь в купе. Джентльмены распетушились: правилами разрешено. У Куприна на такой случай свои законы. Привстал и... вышиб вон окно. Явившемуся на скандал кондуктору невозмутимо протянул ассигнацию – штраф за стекло. В другой раз так же – в пригородном поезде – ехал Куприн с писателем Леонидом Андреевым. Вышли в тамбур курить. Андреев – для поддержки разговора – лениво поинтересовался, чего, мол, там у них с Марьей Карловной? Куприн от вопросца осатанел и схватил коллегу за грудки. Битва классиков продолжилась и в Петербурге на квартире актера Александринки Ходотова...
И постепенно замкнулся тот питерский круг. Опять паскудный "Пале-Рояль", и крохотный бронзовый Пушкин в окошечко виден в сквере... Не принесла столица счастья.
Зеленый домик
...В кабачке "Капернаум", что на Владимирской площади, смрадно. Гам, люди не слышат друг друга. Куприн приходит сюда как на службу. Он мусолит обиды, нанесенные ему барыней-женой. То графином съездит по темени, то ребенка бросит на попечение бонны со звериной мордой, крашеными волосами и вдобавок – в корсете...
Он жаловался друзьям, что его сломала женщина. Это был край, крах личности, когда впадаешь в такую слабость. И если в первой главке упомянута была свояченица Мамина-Сибиряка, то ныне вот она – выходит на авансцену. Свет клином сошелся на Лизе – теперь лишь она спасет падающего.
– Только я ставлю условие, – сказала она. – Пусть он бросит пить и поедет лечиться.
В марте 1907 года они уехали в Финляндию. В тридцать семь лет Куприн резко меняет ритм жизни – из богемствующего бульвардье, тратящего себя в смрадном болоте столицы, он превращается в последователя Цинцинната, ищущего наслаждения в глуши – он выращивает артишоки и цветную капусту. Он облюбовал для жизни Гатчину – уездный городок в сорока пяти верстах от Петербурга. Вдали осталась кабацкая теребень, и именно в эту пору рождаются шедевры Куприна – "Суламифь" и "Гранатовый браслет".
А быт был несладок. Прежней жене остались дача на Черном море и права на все сочинения. И опять поденщина, писание ради денег, даже в местных газетенках он печатался. "Биржевые ведомости" в день, когда Куприн праздновал четверть века служения литературе, приводит слова юбиляра: "Дом давно заложен... Что бы я был за русский писатель, если бы умел устраивать свои дела".
Но все равно то была пора неслыханного счастья. В кредит приобрели "зеленый домик" о пяти комнатах, где Куприны прожили до незабываемого 1919-го. Дом окружали заросли боярышника и сирени. Хотя гатчинский отшельник с головой ушел в работу – нередко и гости съезжались на дачу.
Гости попадали в кабинет – простой и строгий. Портреты Толстого и Чехова – с автографами! Бросалось в глаза саркастическое полотно Павла Щербова "Базар XX века" – сто шаржей на людей Серебряного века. И всюду под ногами живность – собаки, белки, коты, поросята, индейки и куры... Без этого нет Куприна. "Чем ближе человек к природе, – говорил он, – тем выше его духовная красота. Какое это большое счастье для человека, если его самые первые, а значит и самые яркие впечатления бытия украшены настоящей близостью к милой родной земле, к реке, облакам, хлебам, к тихим вечерним зорям, к ярким летним грозам, к снежным первопуткам, собакам, лошадям, пчелам, грибам, землянике, смолистому бору, троицыным березкам, к простому, меткому и живописному языку. Все это похоже как бы на здоровое, целебное молоко самой матери земли".
Потом река судьбы перенесла его в Париж. И там однажды таксист спросил писателя, а не отец ли он Кисы Куприной. Ксения, дочь его, была вначале манекенщицей, потом сделалась актрисой.
В 1937 году уже больной писатель возвратился к родным пенатам. Правительство ассигновало семьдесят тысяч рублей на реставрацию "зеленого домика", но тот, разумеется, был занят другими жильцами, и деликатный Куприн не желал приносить несчастье этим людям. Поселились по соседству в Гатчине. Круг судьбы сомкнулся... Душным августом тридцать восьмого, умирая на больничной койке в Ленинграде, он мог еще вспоминать любезного ему Державина, который вдохновил Куприна на создание шедевра. То был рассказ "Река жизни". А строки у Державина такие: "Река времен в своем стремленье уносит все дела людей. И топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что и остается чрез звуки лиры и труды, то вечности жерлом потрется и общей не уйдет судьбы..."
Кто ведать мог, быть может, это счастье, что обласканный сталинской властью больной писатель не смог и не успел разглядеть всего того, что окружало его в родной стране в час смертной истомы.