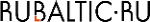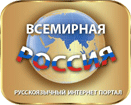На великом, на могучем нацменьшинском языке…
Это особое речевое, мыслительное «принуждение к любви»
Без языка, как говорится, и колокол нем. Но писатель — не колокол. Когда родной язык буквально уходит, как песок сквозь пальцы, поэт об этом говорит. Любопытно посмотреть, какое отражение в творчестве современных поэтов получает ситуация с ограничением русского языка на Украине.«Так и вырвет мой грешный язык…»
Процесс угнетения русского языка, случившийся в последние два десятилетия, на переломе третьего тысячелетия от Р.Х. — особенный. Это не эмиграция в чужую языковую среду. Это особое речевое, мыслительное «принуждение к любви» людей, которые еще несколько лет назад могли сказать о себе, как когда-то Борис Чичибабин: «С Украиной в крови я живу на земле Украины».
Кстати, именно у этого поэта в стихах разных лет прослеживается отчетливая тенденция. В середине ХХ века он говорил то, под чем могли бы подписаться многие его земляки:
У меня такой уклон:
Я на юге — россиянин,
А под северным сияньем
Сразу делаюсь хохлом.
При этом все-таки поэт особо подчеркивал емкость понятия «русский народ» и свое единение с оным:
Я был одно с народом русским.
Я с ним ютился по баракам,
леса любил, подсолнух лузгал,
каналы рыл и правду брякал.
Но затем появились у него и такие горькие строки, ставшие не просто актуальными на Украине — они воспринимаются как предвидение:
Не будет нам крова в Харькове,
Где с боем часы стенные.
А будет нам кровохарканье,
Вражда и неврастения.
Вражда и неврастения — пришли. Открыта новая эпоха, когда язык, буквально изымающийся из окружающей жизни, становится воистину камнем преткновенным. Политическая цель процесса понятна: ускорение ассимиляции, отрыв от огромной цивилизационной вселенной, которая заключена в русском языке как способе, которым говорит Дух Святой и, в конце концов, как средстве мировой коммуникации.
Внешне счастливым и вроде бы безболезненным выходом из сложившейся на Украине непростой лингвистической ситуации для многих русскоязычных поэтов является ассимиляция литературная — переход в своем творчестве на предложенный «государственный» язык. В нашем случае — на украинский. Это дорога, по которой сознательно пошло некоторое количество современных писателей, в нужное время «поменявших» свой язык. Но простота этого «выхода» — обманчива.
«Всяк чужой язык, словно конь троянский», — замечает в своем стихотворении харьковчанка Ирина Евса. Образ понятен: как античный троянский конь, так и известный, почти одноименный компьютерный вирус равно выполняют свою разрушительную задачу. Уничтожают они именно изнутри: так же и языковая подмена (как бы подарок современному жителю Украины, культурное пространство которого насильно ограничено сиюминутно господствующим «национальным» языком) не проходит бесследно — это всегда порывание с традициями, с гигантским комплексом культурных и мировоззренческих связей, которые обеспечивает своим носителям живой русский язык.
Острее всего это чувствуют, несомненно, поэты — ведь почти единственным их инструментом для проникновения в культурные пласты Русского мира остается их родной язык.
Но придём к шахтёрам — просить взаймы,
исчерпав лексические пласты…
— обещает в своем стихотворении 2000 года Андрей Дмитриев, харьковский поэт еще более молодого поколения, чем Евса.
Номинально русский язык еще остается — в памяти, в книгах. Он еще живет в разговорах с теми, кто сопротивляется окончательной ассимиляции. Современные поэты Харькова, условно говоря, постчичибабинского «призыва» составляют нам внутреннюю картину самочувствия человека «с Украиной в крови», но — униженного и будто ограбленного: принудительно ограниченного.
Так и брызжет слюной с никотином
издавая хронический рык,
власть фригидная с «гэ» фрикативным.
Так и вырвет мой грешный язык.
В огороде пасутся дебилы,
дядьки в Киеве сходят с ума…
— констатирует ситуацию Дмитриев. И в его стихотворении «Письмо из глубокой провинции» (2002) — то же стремление осмыслить теперешнее, измененное Отечество:
Шахтёрский город — поперёк пути кривого
из отмороженных варяг в худые греки.
Как всё запущено, дружок, как всё хреново.
И дым отечества теперь — не слаще редьки.
Искусственное ограничение бытия, в котором все становится чужим, процесс, конечно же, не проходящий бесследно для психики и творчества. В поле зрения поэта попадает такое болезненное состояние, как фобия, что, как известно, совмещает в себе два пограничных чувства: страх и ненависть. Где страх, а где — отдельно от него — и злость, неприятие, отторжение чужого — сказать трудно. Все вместе.
От «негайно!» до «доколе?»
Если порядок самого бытия становится алогичным и иррациональным, то и ориентация в нем — это путь к желанному озарению.
Рассмотрим стихотворение С. Минакова 2008 года «Сон воеводы» («Сибирские огни», № 9 за 2009 г.). О названии сочинения сам поэт в частном письме дал такие пояснения: «Случай с ним примерно такой же, как с названием «Молитва Франсуа Вийона» у Окуджавы». То есть дал понять об условности исторического в нем.
Я Сумы проспал, я очнулся в Сумах —
визжавших, что ржавая гайка.
Упавшее сердце стучало впотьмах:
«Нэгайно, нэгайно, нэгайно».
Что мает, имает меня на испуг,
играет в ночи как ногайка?
Так — залпом, внезапно, немедленно, вдруг:
«Нэгайно, нэгайно, нэгайно».
Ахтырка, ах ты-то, чернея, как нефть, —
заржавела или заржала?
Как будто регочут, снося меня в неть, —
ягайло, скрыгайло, жаржайло.
И скрежет, и режет, и гложет, и лязг,
и фары, и гвалт инфернальный.
Литвин, галичанин нахальный и лях
затеяли грай погребальный?
<…>
Я русский бы выучил только за то б,
что в нём — благодатная сила,
за то, что Солоха, грызя Конотоп,
от русского — кукиш вкусила.
Не слышать, не видеть, не знать, не терпеть
нэгайной и наглой их воли.
Скажи, Богодухов, и Харьков ответь:
доколе, доколе, доколе?
Нехитрая вроде бы экспозиция представляет собой до предела сжатый сюжет: герой очнулся в новой реальности и констатирует свое перемещение во времени: из вчера, где название города Сумы было с привычным, русским ударением, в сегодня, где появляется подвижное украинское ударение «в Сумах»: «Я Сумы проспал — я очнулся в Сумах». Потеря, которую обнаруживает лирический герой, не менее драматична, чем потеря носа у гоголевского персонажа: внезапное понимание изменившейся действительности — мучительно. Герою кажется, что и название города в таком, нынешнем варианте, с непривычным ударением — «визжит, словно ржавая гайка». На самом деле, конечно, визжат вполне внешние раздражители: несется, стуча на стыках рельсов, не названный поезд…
Его маршрут обозначен в стихотворении: Конотоп, Ахтырка, Сумы, Богодухов с Харьковом — конечным пунктом, словно спасением и убежищем от бесовской воли. Лирический герой — некий воевода (то есть ратный человек, заведомо непугливого десятка), будто ночным дозором объезжает «владенья свои». Но это — почти инфернальное путешествие. Слышны колеса, их ритмический стук — в синтаксически повторяющихся фрагментах (однородные члены предложения «доколе, доколе, доколе» или «ягайло, скрыгайло, жаржайло», или стирающий разницу между существительными и глаголами совсем уж мистический ряд — «и скрежет, и режет, и гложет, и лязг»).
Процитированный по афористичному Маяковскому «русский язык» здесь выступает как ограда, оберег и защитная молитва, при которой виевская (по Гоголю) нечисть (отметим здесь Солоху, а также город Конотоп — «родину» малороссийских ведьм) — способна отпрянуть и разлететься. Русский язык для автора — сила благодатная. И не случайно в последней строфе появляется Богодухов. И не только и не столько в интонационном отсыле к светловской «Гренаде»: «Скажи, Александровск, и Харьков, ответь, давно ль по-испански вы начали петь?» (Хотя и здесь, в новой лингвистической ситуации, прочитывается совсем уж прозрачная параллель: давно ль не по-русски мы начали петь?). Богодухов в заданном контексте важен и своей несокрытой этимологией: Бог и Дух — безусловно, та чаемая путешественником территория, одна из конечных станций большого маршрута, где пресекается «злая воля». Не туда ли несется гоголевская птица-тройка, ныне превратившаяся в Русь-поезд? Вокруг толпится нечисть и смотрит, что будет дальше, по пути следования, где ею же, кажется, уже и разобраны шпалы и рельсы…
Русский язык пресечётся?
В одном из стихотворений о русском языке (та же подборка — «Сибирские огни», № 9 за 2009 г.), Минаков дает, вроде бы и нигилистский, ответ на вопрос: «Что дальше»?
Русский язык преткнётся, и наступит тотальный хутор.
И воцарится хам — в шароварах, с мобилой и ноутбуком.
Всучат ему гроссбух, священный фатер его с гроссмуттер:
бошам иль бушам кланяйся, лишь не кацапам, сукам.
Русский язык пресечётся, а повыползет из трясин-болотин
отродье всяко, в злобе весёлой плясать, отребье.
Но нам ли искать подачек в глумливых рядах уродин!
Не привыкать-знать — сидеть на воде и хлебе.
Перешагни, пере- что хочешь, пере- лети эти дрянь и мерзость,
ложью и ненавистью харкающее мычанье!
…Мы замолчим, ибо когда гнилое хайло отверзлось,
«достойно есть» только одно — молчанье.
Что толку твердить «не верю», как водится в режиссуре!
…Мы уйдём — так кот, полосатый амба, почти без звука
от убийц двуногих уходит зарослями Уссури,
рыжую с чёрным шерсть сокрывая между стеблей бамбука.
Водка «Тигровая» так же горька, как старка.
Ан не впервой, братишки, нам зависать над бездной.
Мы уйдем, как с острова Русский — эскадра контр-адмирала Старка,
покидая Отчизну земную ради страны Небесной.
Это сочинение всегда вызывает неоднозначную реакцию у слушательской и читательской аудитории на Украине. Можно заметить, что политизированные слушатели отказываются принять резкую контрастность, принципиальный показ выявленных противоречий: существующую (грядущую) «мерзость» (запустения, конечно!) и — отстранение, уход как реакцию на нее.
Автор начинает вроде бы с темы малороссийской. Однако затем мы неожиданно оказываемся в Приморье, на его крайней точке — острове Русский. Локальное ощущение языкового, культурного апокалипсиса, который начался в Киеве-матери-городов-русских и который может ожидать всю Русскую цивилизацию, переносится на всю Русскую ойкумену, сущую в сложных границах (в том числе и государственных). Именно для этого автору и нужны и образ скрывающегося в тайге тигра-амбы, и, контрапунктом, упоминание русского военно-морского исхода с о-ва Русский эскадры под командованием контр-адмирала Г. Старка в 1924 г.
Вопреки упрекам в неприятии украинского как национального, здесь как раз очевидно неприятие антикультуры, вненационального и, в конце концов, внерационального апокалипсиса. В полном соответствии с исихазмом (учении о пути человека к единению с Богом через «очищение сердца» слезами и через сосредоточение сознания в себе самом), герой находит выход. И выход этот — уход, «ради страны Небесной».
Такой ли будет судьба рассекаемого на части русского языкового мира?