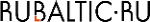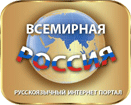Печальное лето 1904 года
К 100-летию со дня кончины А.П. Чехова
Вернемся мысленно в столетнюю даль… Расслабляющий волю зной и общественный пессимизм царят над Россией. Военные неудачи в Манчжурии и на Тихом океане, твердолобие многовекового абсолютизма, не желающего и не способного идти ни на какие либеральные уступки, активизация в этих условиях неукротимых "друзей народа" – грозные предвестники грядущих потрясений великой империи.Ко всем неисчислимым бедам добавляется безвременная смерть в немецкой лечебнице Антона Чехова. Было ему от роду всего-то 44 года. И закончил свою земную жизнь не просто один из знаменитейших россиян, коими наше Отечество всегда было богато. Исчезла, как тень при угасании солнца, совесть нации, густо сконцентрированная в одной личности, остановилась на недописанной строчке рука мастера в той сфере человеческой деятельности, в которой Россия в Серебряный Век своего искусства вышла на первые позиции мира.
Утешало только, что гений бессмертен, что нестираемая метка "классик" – на все грядущие времена. И действительно, образы, созданные Чеховым, за прошедшие 100 лет ни разу не тускнели, как это не раз случалось с творениями его не менее значительных собратьев. И более того, в последние годы наблюдается обострение интереса повсеместно в просвещенных кругах к чеховским героям; их открывают заново и видят по-новому в постоянно изменчивом мире. Но это другая обширная тема, а сегодня, отдавая дань памяти, уместно выслушать очевидца тех дней, когда ко многим печалям России добавилась еще одна. Я предлагаю послушать современника Антона Павловича, его компаньона по писательскому цеху А.И. Куприна. Раскроем его статью "Памяти Чехова".
"Есть изречение: смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова, о последних его днях, даже о последних минутах. Даже в самые его похороны судьба внесла, по какой-то роковой последовательности, много чисто чеховских черт.
Боролся он с неумолимой болезнью долго, страшно долго, но переносил ее мужественно, просто и терпеливо, без раздражения, без жалоб, почти без слов. За последнее время лишь мимоходом, небрежно упоминает он в письмах о своем здоровье. "Здоровье мое поправилось, хотя все еще хожу с компрессом..." "Только что перенес плеврит, но теперь мне лучше..." "Здоровье мое неважно... пишу немного..."
Не любил он говорить о своей болезни и сердился, когда его спрашивали. Только, бывало, и узнаешь что-нибудь от Арсения. "Сегодня утром очень плохо было – кровь шла", – скажет он шепотом, покачивая головой. Или Евгения Яковлевна сообщит по секрету с тоской в голосе: "А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлял. Мне через стенку все слышно".
Знал ли он размеры и значение своей болезни? Я думаю, знал, но бестрепетно, как врач и мудрец, глядел в глаза надвигающейся смерти. Были разные мелкие обстоятельства, указывающие на это. Так, например, одной даме, жаловавшейся ему на бессонницу и нервное расстройство, он сказал спокойно, с едва лишь уловимым оттенком покорной грусти: "Видите ли, пока у человека хороши легкие, все хорошо".
Умер он просто, трогательно и сознательно. Говорят, последние его слова были: "Я умираю". И последние его дни были омрачены глубокой скорбью за Россию, были взволнованы ужасом кровопролитной, чудовищной японской войны.
Точно сон, припоминаются его похороны. Холодный, серенький Петербург, путаница с телеграммами, маленькая кучка народу на вокзале, "вагон для устриц", станционное начальство, никогда не слыхавшее о Чехове и видевшее в его теле только железнодорожный груз. Потом – как контраст – Москва, стихийное горе, тысячи точно осиротевших людей, заплаканные лица. И, наконец, могила на Новодевичьем кладбище, вся заваленная цветами…
Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон. Был тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжелое недоумение. Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом: "Вот горе-то у нас какое... Нет Антоши..."
О, эта потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно чеховских слов! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившегося события открылась за ними. Нет, утешения здесь были бы бессильны. Разве может истощиться, успокоиться горе тех людей, души которых так близко прикасались к великой душе избранника?
Но пусть облегчит их неутолимую тоску сознание, что их горе – и наше общее горе. Пусть смягчится оно мыслью о незабвенности, о бессмертии этого прекрасного, чистого имени. В самом деле, пройдут годы и столетия, и время сотрет даже самую память о тысячах тысяч живущих ныне людей. Но далекие грядущие потомки, о счастье которых с такой очаровательной грустью мечтал Чехов, произнесут его имя с признательностью и с тихой печалью о его судьбе".
Вот такие, трогающие душу слова, посвятил Антону Павловичу его компаньон по писательскому цеху А.И. Куприн.