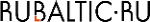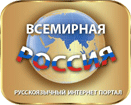Протоиерей Максим Козлов:
Покаяние в цареубийстве состоит в отсечении лжи
17 июля — день памяти царственных мучеников. За годы после крушения советской власти это злодеяние получило несомненное общественное осуждение. Но в осмыслении этого события и его значения для нас говорить о единстве взглядов не приходится. Настоятель храма святой мученицы Татьяны протоиерей Максим Козлов дал интервью, посвященное царскому дню.
— Отец Максим, тема нашей беседы — мученическая кончина царственных страстотерпцев и отношение к ней наших соотечественников. Помните ли Вы, из советского прошлого, как люди оправдывали это злодеяние? Не из конъюнктурных соображений, а сами, прямо по совести своей?
— Ни царя, ни царицу никто не жалел. Насколько я помню по своим детским и отроческим годам, отрицательное отношение к императору Николаю Второму и его семье было абсолютно преобладающим — среди людей нецерковных, и образованных, и необразованных. Тех крестьян, которые вспоминали бы, как при царе-батюшке жилось хорошо, я уже не застал — ни по возрасту, ни, может быть, по среде общения — только слышал рассказы или читал о том, что были люди, которые сравнивали жизнь в колхозе с прежней жизнью и говорили, что при царе жилось лучше. Среди сверстников или в университете, среди преподавателей, даже критически относившихся к советской власти, каковых — открыто или латентно — было, конечно, большое количество, все же господствовало убеждение, воспитанное советской или либеральной историографией, о том, что царь был слабым человеком, о том, что он находился под влиянием людей неблагонамеренных, — тот же Распутин, конечно, чаще всего поминался. Царица же вообще якобы была чуждой России, и этнически, и по психологическому складу, и говорили, что ежели б не царь, так мы, может, войну и не проиграли бы. Люди, не любившие советскую власть, часто говорили, что, может, и революции бы не было — ежели бы не он. Сторонники либеральной точки зрения считали, что если б раньше начал реформы — конституционного плана — то, глядишь, все бы кончилось столь любезной им февральской революцией, а не последующим. Так что в целом это было преобладающее убеждение. Было ли оно по совести или нет? — я думаю, оно было не из конъюнктурных соображений, я даже не говорю про тех, кто повторял дежурные советские и марксистские формулы по поводу Октябрьской революции, крушения царизма и прочее. Это были господствующие взгляды. Но, одновременно с этим, я очень хорошо помню с первых для меня литургий в Обыденском храме, как читались — не в одной, а во многих записках — имена, такие и в такой последовательности: Николай, Александра, Алексий, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. И таким списком от записки к записке они порой повторялись. Прошло время, и я стал узнавать, что это за имена… Так что и то было, и это было.
— Одна женщина, моя ровесница, окончившая школу в 1966 году, рассказывала мне, что их учительница истории осуждала убийство царской семьи и говорила о царской семье только хорошее. Встречались ли Вы с подобными случаями?
— Чтобы только хорошее — пожалуй, нет. А так, чтобы увидеть что-то хорошее, это бывало. Но скорее это относилось к личной жизни: все-таки редко от кого я слышал в те годы, что император был хорош как император, как правитель российского государства.
— И сейчас редко услышишь.
— Да. В основном все сводилось к семье: фотографии детей, письма царя и царицы друг к другу и прочее, что-то в этом хорошее семейное находили. Но и не более, пожалуй.
— Детей жалели.
— Да, детей жалели. Люди, не совсем уж лишенные какого-то нравственного чувства и не признававшие ленинской формулы: «Нравственность — это то, что выгодно пролетариату», все же не могли соглашаться с тем, что убить детей — это какое-то нравственное деяние.
— Отец Максим, в Вашей статье «Его искреннее самопожертвование было совершенно ради сохранения принципа самодержавия...», опубликованной год назад в «Татьянином дне», Вы вдохновенно говорите о покаянии в грехе цареубийства. В частности, Вы утверждаете, что «мы не можем равнодушно и холодно сказать, что страшное событие, совершившееся восемь десятилетий назад, до нас никакого касательства не имеет». Но исходно эта Ваша статья вышла в журнале «Встреча» в 1997 году, еще до прославления российских новомучеников. Актуально ли и сейчас говорить о покаянии? Или можно с определенностью утверждать: все, Россия не покаялась в цареубийстве, упустила покаяние?..
— Покаяние упустить невозможно. Ежели индивидуально возможность покаяния дается человеку даже до конца его земного пути, то для церковного сообщества или для народа возможность покаянного переосмысления своего прошлого, своей истории –сохраняется всегда. Другое дело, что, конечно, по-человечески говоря (теперь это особенно видно), в значительной мере впустую и бездарно были потрачены 90-е годы, когда, как кажется (если вспомнить их обнаженный нерв), больше изменений могло произойти в душе народа, как бы в бытии народном, если бы эти изменения правильнее направлялись, если бы и мудрее, и деятельнее были люди, которые могли этому способствовать — власть предержащие или те, кто имел влияние на общество. Ну так кажется! С другой стороны, вспоминаю возвращение Александра Исаевича Солженицына, который чем-чем, а нравственным авторитетом обладал несомненно — ну и что? Оказало ли его возвращение какое-либо нравственное воздействие на то, что тогда происходило у нас на родине? Можно, конечно, говорить, что «либералы зажали», не дали высказаться и прочее — да нет, пожалуй, дело не только в этом. Конечно, в каком-то смысле подзажали, в каком-то смысле не дали долго высказываться, но не то, чтобы вовсе замолчали и не то чтобы вовсе не дали высказаться. А был ли какой отклик? Да нет! Особенного не было.
— Хуже того, батюшка, я сам видел видеозапись, как Александр Исаевич рассказывал: «Я говорю им о покаянии, а мне смеются в ответ».
— Да, это тоже было. Может, мы и переоцениваем то, что могло произойти в 90-е годы. С чего бы вдруг так все переменилось — с минуса на плюс в течение нескольких лет? Я думаю, что мы в почитании новомучеников сейчас приходим, как и в целом в нашей церковной жизни, к более трезвому осознанию того, что с нами произошло иможет произойти. Как не станет воцерковленным по приказу свыше народ — хотя покреститься могут почти все — так и живое почитания святых, хотя канонизировать можно тысячи, не возникнет на пустом месте. К этому нужно будет, вероятно, еще долго и долго идти. И каждому свое посильное маленькое дело делать, каждому какое дело дано, кто сознает себя этому не чуждым, кто сознает это для нашей Церкви и для нашего народа важным. И тогда, глядишь, Господь и потерпит нас еще некоторое время.
— Большой вред нанесли те люди, которые «ревнуют не по разуму» в почитании царственных мучеников: покаянный молебен в селе Тайнинская и другие явления. Как Вы думаете, чего больше: указанного вреда или, если можно так выразиться, самостоятельного равнодушия?
— И то, и другое вредно, как две, собственно, крайности, между тем и другим, как между Сциллой и Харибдой, должно нам пройти. Равнодушие, т.е. такого рода отношение: а что тут имеет ко мне отношение? меня это не касается, я хожу в храм, молюсь Богу, сам никого не убивал, большевиков не люблю и не оправдываю, ну и чего вы от меня, собственно, требуете? — это один подход. Второй: царю как святому усваивается то, что может принадлежать только Богочеловеку, Искупителю человеческого рода. Хоть бы и в намеках, хоть бы и подспудно, в положениях и выводах как бы нормальных, но всякого рода сотериологический перенос на кого угодно, пусть на самого великого из святых, того, что должно принадлежать Господу нашему Иисусу Христу, происходить в сознании христианина не должен. Если происходит, то это уже грань с ересью или прямая ересь.
— Что Вы думаете, отец Максим, о том, каким образом мы разделяем вину в цареубийстве? Мы ее духовно наследуем как некое заклятие, которое может быть изжито только в следующих поколениях? Или как произвольное и непроизвольное участие во лжи и клевете, восходящих к тем людям, которые предали царя? Или важнее всего здесь наше безразличие к собственной истории, к ее узловым моментам, нежелание потрудиться в стремлении к истине?
— Пожалуй, последнее ближе всего лежит. Действительно, готовность удовлетвориться предлагаемыми штампами, без собственной работы души и разума, без прикосновения собственным усилием ума к тому, что, собственно, происходило в те годы, — это, увы, по Пушкину, все те же «наши лень и нелюбопытство», которые в данном случае проявляются достаточно часто. В этом смысле это наш — многих и многих из нас — несомненный грех. Конечно, речь не может идти о каком-то наследственном родовом проклятии, о наследовании поврежденности из поколения в поколение, но об отсутствии деятельного отсечения неправды и лжи. Может быть, не в личном согласии, а в личной пассивности по отношению к тому, что эта неправда и ложь продолжают иметь место. Греховно то, что мы разводим руками и говорим: что тут поделаешь? Если даже мы совершенно не согласны с клеветой в отношении царя и царицы, то на уровне либерального плюрализма — ну как это можно запретить? Люди же так думают, так говорят, а мы что можем, собственно, сделать? Такое разведение руками зачастую есть просто поиск внутренней комфортности. Не идти на конфликт, не писать вещей непопулярных, не рисковать репутацией, все это, в разной степени мелкости, но — предательств.
— Отец Максим, в рамках нашей темы нельзя не коснуться волнующего читателей вопроса об останках, найденных в окрестностях Екатеринбурга и похороненных в Петропавловской крепости. Представители Церкви не раз заявляли, что Церковь не может признать эти останки подлинными, пока ученые не придут к единому мнению, ибо результаты генетических исследований Стэнфордского университета в США и результаты японских ученых-генетиков совершенно расходятся с официальной российской версией. Может быть, Вы что-нибудь добавите к этому? Например: что Вы думаете об идее создания независимой от государства церковной комиссии по решению вопроса об останках?
— Я не специалист в этой области, и я вовсе не хочу рассуждать с научной точки зрения. Очевидно, однако, что нет единодушия у представителей науки по поводу екатеринбургских останков. Для меня существенно важно другое. Захороненные в Петропавловском соборе в Петербурге останки не стали объектом живого и непосредственного народного почитания. Я думаю, что свидетельство Церкви — это прежде всего, свидетельство молитвы и благоговения. А не то, что Церковь каким-то образом инициирует создание еще одной комиссии. Проверять-то все равно будут ученые. Все равно иерархия или члены этой предполагаемой комиссии кому-то должны довериться, выбрать кого-то, как того, кому они поверят, так? Ну нет у нас такого правдомера, который показал бы, кому доверять. А то, что народ Божий скорее поедет в Екатеринбург, на Ганину Яму, и что если уж есть где место, формирующее вполне правильное, без тайнинских перегибов, живое почитание царственных страстотерпцев, так это место их убиения, это для меня несомненно. А Петропавловская крепость — музей, куда, как в музей, заходят посмотреть на красивые могильные плиты.
— Грех цареубийства тяготеет над всем российским народом. Согласны ли Вы с тем, что покаяние в этом грехе — это, может быть, единственное, что может объединить нас, столь, увы, неспособных к солидарности?
— Я думаю, что сейчас это слишком высокая задача. Надеяться, что сейчас в народе произойдет такого рода движение, которое затронет большинство русских людей, большинство россиян, и мы объединились бы вокруг переосмысления того, что совершилось в нашей стране в 1917-1918 годах, в частности, убийство царственных страстотерпцев — надеяться на это сейчас не приходится. Думаю, что это задача на неближайшее будущее. Не вижу реальных даже росточков такого движения. Скорее пока объединительными началами для нас могут становиться самые-самые простые вещи. Дай Бог, их бы не выбили. Что семья — это хорошо, а блуд или отсутствие семьи — это плохо. Что семья — это союз мужчины и женщины, а не женщины и женщины или мужеложника и мужеложника. Что Родину, какою бы она ни была, любить нужно, а не любить Родину — это подлянка какая-то, в какие бы слова таковая нелюбовь ни облекалась. Вот такие самые простыекубики, а потом уже, если будут хотя бы они, то на них, как на фундаменте, может вырасти трезвое и правильное переосмысление того, что произошло в начале ХХ века. А пока их нет, что и говорить. Сначала должны быть корешки, а потом процветут и вершки.
— Т.е., если вспомнить название Вашей книги о семейной жизни «Последняя крепость», лишь бы последние крепости не были разрушены.
— Да, пока что не до тех нам великих рубежей, держать бы пока окопы наши последние.
— Ну вот сейчас идет 2011 год, 2017 не за горами.
— Ой, я мистике цифр не придаю значения!
— Но тема-то возникнет.
— Тема возникнет. Более того, если она будет как-то инициирована мероприятиями сверху, то это только вызовет отторжение. Вот уж то хорошо, что по крайней мере это в официальную идеологию власти не входит. Что нас по крайней мере с партийных трибун не призывают всенародно покаяться и осуществлять паломничество к Ганиной Яме. Слава Богу, этого в новой идеологии не коснулись. И это только хорошо.