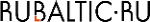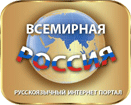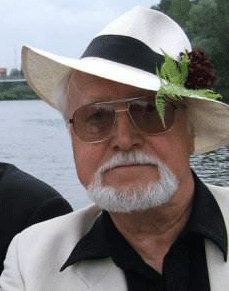
Свет Яновой ночи
Янис Стрейч — о судьбе своих фильмов и современном кино
Самый известный латышский режиссер, автор "Театра" и "Лимузина цвета белой ночи", Янис СТРЕЙЧ — о судьбе своих фильмов и современном кино.
Этой осенью фильму "Театр" исполнится 35 лет. Но в последние годы его показывают на телеэкране все чаще и чаще. А без комедии "Лимузин цвета белой ночи" уже трудно представить Лиго — так же, как Новый год без "Иронии судьбы…" И в этот раз, когда притихнет предпраздничный город и в вечернем тумане на берегах рек зажгутся первые костры, в каждый дом снова придет фильм Яниса СТРЕЙЧА…
— Для меня самого большая загадка — успех этих фильмов. И самое странное, что он нарастает с каждым годом, — говорит "ВЕСТЯМ" режиссер Янис СТРЕЙЧ. — Особенно в Латвии: люди знают фильм наизусть — и все равно смотрят, повторяют за героями текст… Мне это непонятно, а критики такими вопросами не занимаются… Вообще когда фильм делаешь — каждый снимаешь с душой, с надеждой. Но как получится — это воля случая, Божья воля. Иногда даже чувствуешь: это, наверное, уже высшая воля, раз так обстоятельства иногда складываются, такие совпадения во время съемок происходят.
В фильме "Театр", например, было много таких невероятных совпадений. Там есть такая сцена — когда Джулия после последнего свидания уходит от Тома и бросает ключик от его квартиры в решетку уличную, куда воды стекают. А я писал сценарий на русском языке… как вам кажется, я ведь довольно нормально еще говорю на русском, верно?
— Да, отлично говорите.
— И за словом в карман не лезу. Но пишу по–русски и по–латышски с одинаковыми ошибками… Так вот, тогда я писал сценарий "Театра" на русском языке. И когда я подошел к месту, где описываю, как она бросает ключик, вдруг решил посмотреть в оригинал — чтобы правильно, литературно содрать оттуда. Ищу, ищу — нет у Моэма такого места. И знаете, у меня как–то мурашки пробежали по спине. Потому что я был уверен, что прочитал об этом в романе у Моэма — как Джулия из тени улицы выходит на освещенную площадь, как она бросает этот ключик. Я уже думал, как эту сцену с Вией Артмане снять с высоты, с крана, специально такое место искал. И когда я понял, что в романе Моэма такого места нет, я был поражен до глубины души. Кто продиктовал мне этот фрагмент фильма?..
И во время съемок "Лимузина цвета белой ночи" тоже было много мистического. Но вообще–то с этим фильмом зритель, наверное, оказался умнее меня. Ведь там юмора никакого нет. Абсолютно никакого юмора. Смеется зритель, который понимает героев, понимает их мысли, их душонки видит, вывернутые наизнанку. Даже там, где мой герой прыгает, зритель понимает, что это такой куриный полет, что он и бабушки боится, и грядки боится. Поэтому все и смеются, а не потому, что прыгает клоун.
К сожалению, в русском варианте фильм немного испорчен. И можно сказать — по моей вине, по моей халатности: когда делали дубляж, надо было бы поехать проследить за процессом. При переводе на русский язык всех героев "приземлили" — и они там грызутся просто. А у меня это притворство сладкое — как будто спокойное, вежливое, латышское такое, над которым зритель смеется, потому что угадывает, что за этим скрывается…
Я с "Лимузином…" поехал в турне по Дальнему Востоку: Хабаровск, Владивосток, Охотск. По морю — до границы с Китаем, в Благовещенск. И во Владивостоке был самый огромный экран, на котором когда–либо мой фильм демонстрировался, по–моему, размером с пятиэтажное здание. Этот кинотеатр во Владивостоке на берегу океана стоял, так и назывался — "Океан". Я сам переводил тогда картину — сидел за пультом и говорил на русском. Может быть, местами и поправлял, и что–то вставлял. Чтобы было живое общение со зрителями. Две тысячи зрителей — и на огромном экране идет "Лимузин". Это чудно было! Боже, с каким восторгом тогда на Дальнем Востоке принимали этот фильм! Женщины собирались группой и просили меня: "Передайте привет этот чудной Лилите Берзине!" И мне радостно это вспоминать, потому что связь с Дальним Востоком остается. Этой осенью я поеду в Благовещенск на кинофестиваль, буду председателем жюри: приглашают…
Восток–Запад
— Скажите, г–н Стрейч, а сегодня у латышских режиссеров где больше шансов реализоваться — на Востоке или на Западе?
— Смотря как режиссер будет действовать. Это ошибка нашего мышления здесь: что в Латвии можно сделать картину, и весь мир обомлеет. Мол, "Слышали, вот в Риге там Смилдзиньш снял картину?!" И в Париже об этом все газеты пишут, и Лондон в восторге… Да они там на Западе не знают, где Латвия находится! Ну откуда им нас знать?
Надо быть в системе. В одной рыночной системе. В какой, все равно. Мы были в системе, которая называлась Госкино. Был огромный советский рынок, мы сразу делали для него. Если бы мы сейчас были, скажем, в норвежской системе, какая бы она ни была, сюда вошла бы Норвегия со своей техникой — и мы бы работали. Но наши этого не понимают. Они выросли в такой иллюзорной уверенности, что как тогда мы могли снимать фильмы, так и сейчас сможем снимать. Но тогда мы работали, уже зная, что это пойдет до самого Дальнего Востока, пойдет за границы СССР. Всюду, где за рубежом находились агентства "Совэкспортфильма", там и шли наши фильмы. И отлично шли! И моя картина "Помнить или забыть" была продана в 40 стран. И в штате Калифорния (автор сценария Руднев показывал мне телеграмму) эта картина в прокате стала рекордсменом среди заграничных фильмов… Так что какой хозяин нам будет платить, кто будет рекламу делать — с тем и можно работать.
— Вот интересно: ваши лучшие картины вышли в советское время, а приходилось ли вам тогда делать выбор между художественностью и идеологическим заказом?
— Беспрерывно.
— И как вы справлялись?
— Вы знаете, это ведь не был жесткий такой заказ на явно пропагандистские фильмы… Мне повезло: у меня были счастливые годы. Застой так называемый — это застой был в политическом хозяйстве. А в искусстве это был расцвет. Потому что мы знали условия игры. Это в сталинское время (если почитать того же Радзинского) самым жутким была непредсказуемость тирана: сегодня он может обласкать, а завтра обругать; сегодня одни требования, а завтра — другие, и ты не знал, как угодить и кому. А в брежневские годы известны были все требования. И при желании можно было и закон обойти, и оформить все как–то формально… Вот, скажем, в Белоруссии сделали прекрасную киноплощадку — со всеми объектами для кинонатуры, и кроме того, шикарно оформленный комплекс отдыха для работников киностудии. Мы спрашиваем: как вам это удалось? Нам говорят: "А мы оформили это как объект ПВО". ПВО — звучит как противовоздушная оборона, а они так сокращенно назвали Помещение Всеобщего Отдыха. И под это сдали шикарный объект. Придет комиссия — все документы в порядке, строили ПВО… Вот так выкручивались зачастую. Потому что, повторю, были известны условия игры.
Как–то Лилита Озолиня рассказывала: "Я спрашиваю Стрейча, о чем будет фильм "Чужие страсти", а Стрейч отвечает: формально — о классовой борьбе в Латвии, а о том, что у меня в сердце, — это одному мне известно только…"
Знаете, как мы пробивали сценарий фильма "Театр"? Ведь автор романа Сомерсет Моэм был английским шпионом, он в Петрограде во время революции участвовал в "заговоре Локкарда". Тогда куратором от КГБ на Центральном телевидении был мой школьный друг Альбин Валуев. И он убедил руководство в Москве, что все опасения — ерунда, что Моэм — хороший автор. Но мне надо было пробить еще две серии. Просто денег нужно было больше, чтобы и на костюмы, и на все хватило. Две серии — это 300 тысяч рублей. Таких денег мне давать не хотели. И тогда я написал, что фильм будет с глубоким классово–социальным смыслом. Поэтому он и построен на парадоксе: если в первой серии бедный клерк влюбляется в известную театральную даму высшего общества, то во второй серии окажется, что эта дама просто труженик, она зарабатывает деньги честным трудом, а молодой человек — будущая акула капитализма… Разве не так?
— Ну… в каком–то смысле — так.
— Доказал? Доказал. Разве в фильме этого нет? Есть.
— Вот вы сказали: 300 тысяч рублей на съемки картины. А сейчас, чтобы снять фильм хороший, нужны уже миллионы, десятки миллионов долларов.
— Совершенно верно. Сейчас уже другая техника.
— Но за последние 20 лет только два раза были выделены большие деньги. На фильмы "Стражи Риги" и "Байга васара". И проекты эти были сугубо идеологическими…
— Я вообще всегда воздерживаюсь от суждений о работах коллег. Но знаете, почему суммы такими большими получились? У нас деньги на фильм не дают сразу. У нас делают так. Дают тебе, образно говоря, лошадь, чтобы пахать поле. Ты немного попахал — останавливают: "Подожди, в следующем году продолжишь. А эта лошадь нужна другому, третьему тоже нужна". А на следующий год все поле уже заросло — и ты начинаешь заново… Это ужас насколько дороже, когда уже запущенную картину останавливают! Пашкевич, который снял "Гольфстрим", 10 лет над фильмом работал. Разве это вообразимо — 10 лет?!
Съемки моего последнего фильма "Наследство Рудольфа" в общей сложности длились 5 лет. Это аномально. Я картину так и не кончил. Я закончил только отснятие материала. И то, как я задумал, я не заснял и не засниму уже, видно, никогда. Здесь нужно мужество от чиновников: наверное, решение одного какого–то министра, чтобы прекратить систему, когда деньги на фильм по каплям добавляются. Но это элементарно боятся сделать И так все тянется и тянется…
Конечно, нашему кино нужен рынок. И самый классический период латышского кино как раз выпадает на те годы, когда мы включились в общий — советский — рынок. Это картина Лапниекса "Сын рыбака", снятая в 1940 голу. Потом война — и мы снова вступаем в рынок. А рынок на самом деле и гениев выращивает, и бездарностей отбрасывает. И если кто–то выделяется, и его не признают, то такие художники создают течения — и все это тоже рынок, живое общение. А мы сейчас вне рынка, мы в кустарнике сейчас.
Поток доброй души
— В советское время только двум режиссерам из Латвии была присвоена высшая профессиональная категория — вам и Алоизу Бренчу. Но дело, наверное, не только в том, что вам какие–то категории присвоили, что в "Википедии" об этом написано, а в том, что именно ваши фильмы и фильмы Бренча сейчас идут на экране все чаще и чаще. Как вы думаете, почему так сложилась ваша судьба?
— Нам с Аликом во многом повезло. Наверное, я сейчас снял уже больше фильмов, чем он, — потому что живу дольше… Ну просто выпало нам время тогда благосклонное. Снял бы я "Лимузин" лет на пять раньше — он бы не прошел. Снял бы "Театр" на пять лет раньше — не прошел бы ни в коем случае, даже если бы мне помогал мой друг, куратор из КГБ. Есть такое понятие — везение. Мне повезло в некоторых случаях. В некоторых не везет постоянно, но я не обращаю внимания… А Бренч — да, Бренч был великим мастером.
— Вы говорите: везение — важный момент вашей жизни. Интересно, а как вам кажется: кто режиссер вашей жизни и по сценарию какого из ваших фильмов прошла ваша собственная жизнь?
— Может быть, вредно о таком задумываться? Не знаю… У меня книга вышла — "Поток доброй души", вот этому потоку отдался и живу… Мне не надо было огромных стараний, чтобы принять то или иное решение. Просто как–то, по большому счету, наверное, все–таки везло. И, наверное, это испортило мой характер. Если бы я был более усердный, более настойчивый, если бы у меня было больше тщеславия, — я бы достиг большего.
Я думаю, что сценарий жизни не написан, он все время творится. И весь мир беспрерывно меняется. И только когда жизнь свершается — тогда все видно, понятно, всегда все проясняет финал. Есть слова Беранже: "Вы родились. Не в этом, детки, счастье, Пошли вам Бог достойно умереть". В общем, рано говорить: вдруг финал испоганит еще все… Вот Гитлер: убили бы его перед войной — остался бы он в истории как человек, который вывел Германию из кризиса. А он такого натворил…
И еще до самого конца никто не знает, какая сцена была кульминационной в его жизни. А вдруг кульминация — это моя дочь или даже внучка. Ведь и так может быть. Вот одна известная певица сказала: "Как жить, если звездный час позади? Неважно, что у меня позади, у меня есть сын, у меня будут внуки, и кто знает, кем станет мой внук?" Действительно: может, ее внук и будет ее звездным часом, и вся ее жизнь была только подготовкой к этому?
— Г–н Стрейч, а сколько у вас внуков?
— Ой, мало, у меня внук и внучка только. Сын трагически погиб. Ему было всего 40. И много, много можно тут сказать: что вся наша жизнь — это великая тайна, такая же, как и смерть.
— Мы так понимаем, что каждый фильм для режиссера — это как ребенок, которому отец отдал часть жизни…
— Да, и ребенок, и экзамен, и все прочее. Мой любимый "ребенок" — это, наверное, фильм "Дитя человеческое". Знаете, почему? Там много личного. Там моя Латгалия. Там говорят на латгальском диалекте. Там Латгалия довоенная, там мое детство прожито. А еще это мое прощание с советской эпохой, это последний фильм, снятый на деньги Москвы. Это было прощание с бывшими отношениями, с Главком — в который мы всегда приезжали с трепетом, всегда в тревогой: как тебя примут? И вдруг в Главке расплакались, расцеловали меня и сказали: "Мы давно в этом доме ничего такого чистого и возвышенного не видели". Это был последний мой фильм той эпохи…
Сделано в Голливуде
— Интересно, а что вы думаете о сегодняшнем западном кино? Вот, например, у нас в Латвии один молодой человек снял фильм за тысячу долларов. И этот фильм куда–то отвезли и показали, чуть ли не премию какую–то в Европе он получил. Но фильм был о том, как в отключенном лифте оказались двое мужчин нетрадиционной ориентации… И на последних Каннах, например, награду получила картина про однополую пару. Это ведь тоже уже идеология. Когда последний "Оскар" достался очень такому патриотическому американскому фильму, российские кинокритики смеялись, что это похоже на советское кино… Другими словами: если сегодня выходить на западный кинорынок, то там идеологическое давление будет, может быть, даже более жестким, чем при Брежневе?
— Да, мир сходит с ума, что я еще могу сказать… И это не давление даже, просто попробуйте что–то возразить против однополых браков — и вас съедят. Вот о Боге, о Мухаммеде все можно говорить, все дозволено. Это же свобода слова. А если попробуешь защитить святость семьи — тогда ты будешь реакционером последним. Это новая идеология.
— Режиссер Карен Шахназаров недавно сказал интересную вещь. Оказывается, Голливуд прокатывает на Украине свои фильмы, озвученные на украинском языке, себе в убыток. И голливудские фильмы, показанные по всей Латинской Америке, тоже не дают Голливуду прибыли. То есть этот прокат не носит чисто рыночного характера. Эта кинопродукция носит все–таки идеологический характер.
— Да, это так. И в итоге западное кино мы вообще не знаем. Мы судим о нем по каким–то американским фильмам. А что французы, итальянцы, венгры производят? Что чехи, поляки делают, скандинавы — мы знаем? Не знаем ничего. Потому что довлеет рынок — он завладел всем миром.
Я понимаю, как это происходит. Что делалось у нас на развалинах Советского Союза? На всей постсоветской территории появились эти показы в видеозалах. Фильмы пиратски украдены — но американцы не возмущались, а втихаря радовались. Потому что на самом деле уничтожалась целая система огромная, уничтожалась огромное советское пространство кинопроката. И оно было уничтожено. И теперь на этом пространстве создана новая система проката. Как она у нас себя чувствует — плодоносит, не плодоносит, с прибылью работает или нет, — я не знаю. Но, вспоминая ваш пример с Украиной и Латинской Америкой, думаю, что голливудские фильмы там только на первый взгляд никакой прибыли не дают. Прибыль обязательно будет — другого характера. Американцы идеологическое кино очень тонко всегда умели делать — лучше, чем в Советском Союзе. Помните, какими кондовыми когда–то были наши фильмы про армию? И вдруг я однажды увидел на экране американский передвижной военный госпиталь. Действие происходит где–то во Вьетнаме. Такой бардак, такие идиоты офицеры, но какие же бравые солдаты! Ну, кажется, это такая критика американской армии! А кончается фильм — и ты уходишь с чувством: Боже мой, как прекрасно в такой армии служить!
А у нас в фильмах про армию ходили по струнке, подчиненные обращались по уставу к командиру… и прочее: и то нельзя, и это нельзя. И, по сути дела, не было ни одного хорошего армейского фильма. Конечно, была гениальная "Баллада о солдате", был "Отец солдата" — прекрасные фильмы о войне. Но на фильмы о мирном времени в армии была строжайшая цензура: чтобы все по уставу, чтобы пуговицы застегнуты и т. д.
— Здесь и проиграли…
— Да, проиграли. А американцы жизненно, по сути смотрели. И сейчас они так же смотрят. Думаете, просто само по себе появилось авторское кино, это течение "против потока", против традиционного кино? Но почему же тогда эти фильмы все время на фестивалях? Кто их финансирует, как вы думаете? Разве может быть, чтобы кто–то финансировал недоходное кино просто потому, что оно идет против коммерческого? Допустим, находится какая–то группа людей, которые воюют против коммерческого кино и объявляют его дурновкусием — именно потому, что оно коммерческое. Они объявляют, что достоинство настоящего художника — снимать антикоммерческое… А кто все–таки за это платит: финансы–то им тоже нужны? Я задаю вопрос, я не отвечаю. Но даром никто не работает. И в таких масштабах, с такой агитацией, с такой пропагандой. Кто за это платит? Задумайтесь, сограждане…
Счастье и грусть
— Г–н Стрейч, мы разговариваем с вами как раз накануне главного летнего праздника. Скажите, почему для латышской души так важна ночь на Лиго?
— Наверное, это уже в крови. Так вот пошло, так воспитаны. Самая короткая ночь в году — и действительно есть повод встретиться, погрустить и поговорить. Повод для общения прекрасного, теплого. Это действительно традиция, потому что веками так было.
— Вы назвали свой фильм "Лимузин цвета Яновой ночи". Скажите — а какой он, цвет Яновой ночи?
— Цвет дождя. Обыкновенно бывает дождь. Есть такая пословица: "Льет, как на Янов день". Но даже при дожде очень весело и мило. Это зависит не от костра, а от огня, который в сердце. С этим огнем встречаются люди — им хорошо в любую погоду. И это главное. Это время зажечь Янов огонь в своем сердце, подумать о красоте жизни. Этот праздник более созерцательный по своей сути, по характеру национальному. И песни, и мелодии — грустные. Минорные эти мелодии. Ведь лето уже достигнуто. И дневной свет все короче и короче… Многие именно это чувствуют. И многим от этого грустно. Ведь торжество всегда сопровождается грустью. "Вечные спутники счастья — сорок сомнений и грусть". Вот это и можно сказать словами Ильи Эренбурга о Яновой ночи: есть и счастье, и грусть…
из досье
Янис СТРЕЙЧ. Кинорежиссер, сценарист, актер, художник. Родился в 1936 году в селе Анспоки Прейльской волости Даугавпилсского уезда. Награжден Орденом Трех звезд, лауреат премии Ватикана. Почетный член Академии наук Латвии. Участвовал в создании 30 фильмов, режиссер таких известных картин, как "Лимузин цвета белой ночи", "Театр", "Помнить или забыть", "Мой друг человек несерьезный", "Незаконченный ужин", "Часы капитана Энрико", "Мальчишки острова ливов", "Жернова судьбы", "Дитя человеческое", "Наследство Рудольфа", "Мистерия старой управы", "Верный друг Санчо", "Эта опасная дверь на балкон", "Свидание на Млечном Пути"…