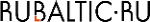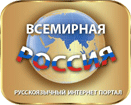Трудно быть Германом
Судьба Алексея Германа в кинематографе
В искусстве кино состоялся великий мастер, титан. И мы говорим об этом на основании всего четырех фильмов; ни один не выходил на экраны нормально, спокойно и премьерно - как заслуживают картины такого уровня. "Проверка на дорогах" на десятилетия залегла на полке и вышла крошечным тиражом, когда уже стала историей даже ее стилистика. "Двадцать дней без войны" застенчиво шли по окраинным кинотеатрам. "Мой друг Иван Лапшин" пролежал в карантине несколько лет, и только спустя годы его стали наконец показывать по телевидению - выяснилось, что перед нами одно из сильнейших произведений мирового кино. "Хрусталев, машину!" - первый фильм Германа, официально отправленный на Каннский фестиваль, там был принят с недоумением, но потом вышел в прокат уже с серьезным успехом у прессы - правда, не в России, а во Франции.
И вот на основании всего этого имя Алексея Германа в стране звучит как имя безусловного и безоговорочного классика.
То, что классик, титан, мастер, видно в каждом кадре. Такого проникновения в эпоху, в ее вещный мир и в ее подкорку, нет больше нигде. Герман умел схватывать нечто, носившееся в воздухе. То парадоксальное, что категорически противоречило здравому смыслу, но было присуще стране и времени. Он открыл секрет, как передать на экранах нашу генетическую память.
При этом он брал время врасплох: неприбранным, непричесанным, в минуты неприкрытой неказистости. Передавал его шумы, скрипы, шорохи. Его почти всегда черно-белое изображение проявляло, как в ванночке фотолаборатории, смутные, бликующие, мерцающие, почти призрачные образы людей ушедших эпох. Эти образы пронизаны печалью и любовью. При этом пространство своих картин Герман никогда не снабжал указателями, не навязывал нам поводырей, которые могли бы растолковать смысл увиденного. Он оставлял непривычный зрителю простор для его собственной эмоциональной и мыслительной работы - просто доводил жизненный материал до концентрата, делающего раствор "неотобранной жизни" доступной для анализа. Актеры должны не "показывать" и не "входить в образ" - должны жить.
Известно, что лучше всего воскрешает прошлое запах - он мгновенно возвращает к жизни целый мир воспоминаний. Так вот, Алексей Герман умел невозможное: он на экране передавал запах времени. Это запах нищеты и безнадеги 30-х годов. Пряные и дымные запахи тылового Ташкента, где раненые фронтовики чуть оттаивали душой. Запахи зажатой в тиски, но - жизни, когда и во мраке общей хмурой бдительности чудом пробивались живые ростки, робкие лучи света: человеческая природа все равно брала свое.
Сыщик из УГРО в "Лапшине" ловит банду с такой безнадежной усталостью, что ясно: если кого и поймает - то случайно. В таком режиме в фильмах Германа существует вся страна: если что и произойдет хорошего - случайно. И во всяком случае, вопреки обычаю: удачи никто не ожидал. Человек и страна - в постоянных контрах. Страна вечно против человека, человек вечно должен пробиваться через ее коросты, путы и вериги к свету - но при этом готов отдать за нее жизнь.
"Двадцать дней без войны" - великий фильм о войне, в котором не стреляют и совсем нет героики. В нем ищут человеческого тепла, от которого в этой беспрерывной войне с врагом внешним и внутренним остались редкие искры - их надо разглядеть, надо умудриться не погасить, и тогда можно согреться, но только на миг. А потом - опять в бесконечную стужу.
Все четыре фильма Герман построил на материале, ему предельно близком. Выйдя из советской "номенклатурной" семьи писателя Юрия Германа, он в фильме "Хрусталев, машину!" тщательно воспроизводит этот удивительный, нечеловеческий быт, набитый ненужным антиквариатом, похожий на музей, где жить нельзя. И опять-таки этот странный, неказисто роскошный, нежилой быт становился метафорой жизни, где даже ее всевластный тиран кончался жутко и грязно, без подобающей торжественности, кряхтя и пукая на каком-то убогом топчане.
Эти экранные образы застревали в памяти и там переплавлялись в образ эпохи - советской или постсоветской, совершенно неважно, потому что характер страны и ее людей менялся мало. Не сняв о постсоветской России ни одного фильма, Герман умудрился ее провидеть, исчерпывающе предсказать.
Герман - классический пример художнического самоедства. Трудности его характера вошли в легенды, работать и с ним и ему самому было мукой. Он добивался совершенства. Сцена в промерзшем вагоне из "Двадцати дней без войны", где Алексей Петренко в роли летчика ведет свой бесконечный монолог, снималась действительно в промерзшем тряском вагоне. Потому что звук, свет и поведение персонажей в таком вагоне неуловимо другие, чем в декорации, пусть даже самой тщательной и достоверной. Съемки затягивались на годы, шедевры рождались не в муках даже - в отчаянии, в беспросветности, в титанических трудах. Наверное, так строились египетские пирамиды: циклопический памятник, какой нельзя построить с помощью современной техники, возведен мускульным усилием, габаритов и мощи которого не охватить умом. Гигантский по замыслу фильм "История арканарской резни" по повести Стругацких "Трудно быть богом" снимался тринадцать лет, конца съемок не было видно. Есть документальная картина Антуана Каттина Playback о съемках этого фильма, где его автор пытается прорваться сквозь хаос российского кинопроизводства, создать из всеобщего сюра нечто концептуальное и гармоничное. Индустриальное по природе искусство у нас по-прежнему делается "на коленке", когда не работает все, что должно работать, и мертво все, что должно изобразить жизнь.
Как-то Алексей Герман рассказал о том, как на нашей студии не могли напечатать качественный черно-белый негатив. В век цвета - он не мог добиться нормальной черно-белой графики. Философская фантасмагория Стругацких в кино должна была выйти к обобщениям такого масштаба, что не могла не рухнуть под собственной тяжестью - замысел превышал возможности. То, что виделось режиссеру, оказалось неподъемным для системы.
Увидим ли мы когда-нибудь этот фильм? Отважится ли кто-то завершить труд, столь же бесконечный, как базилика Sagrada Família Гауди? Или он так и останется памятником недосягаемому Совершенству?
Как заверяет сын мастера Алексей Герман-младший, пятый фильм мастера "Трудно быть богом" почти закончен и выйдет на экран. Но ясно, что последний мазок в живописном полотне сделает уже другой человек - а стало быть, это будет другой фильм.
Алексей Герман прожил среди нас 74 года. Мастер античных масштабов. Титан.
Кстати
Похоронят Алексея Германа в воскресенье, 24 февраля, на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.
Предварительно определено, что с 10 утра до полудня на киностудии "Ленфильм" состоится гражданская панихида и прощание с кинорежиссером, затем в 13.00 - отпевание в церкви на Конюшенной площади.
Прямая речь
Так говорил Герман
САМОЕДСТВО.
"Сейчас наступило такое время, когда непонятно: для кого я делаю свое кино? Раньше понимал, что должен сказать правду, понимал, с кем должен бороться, и чувствовал, как это сделать. Мы были идейными людьми, уверенными, что своим творчеством должны быть полезны нашему социалистическому искусству. А сейчас сквозь шум не пробиться. И теперь я не знаю, кому рассказывать правду и кому она нужна? Мне сейчас трудно жить, я не знаю, что делать. У меня состояние очень убитое, понимаете... Жизнь кончается. И мне кажется, она прожита крайне неудачно. Меня мучает тоска за бездарно прожитые годы".
СТРАХИ.
"Вы подумайте: делаешь первую картину, ее изымают из проката фельдъегеря из КГБ. Как на меня орали, когда я снял свою вторую картину, "Проверку на дорогах", вспоминать неохота. И так всякий раз. С каждой картиной у Лешки, сына моего, радость, а у меня - кошмар. И главное - почему? Попробуйте-ка, походите на студию, когда с тобой никто не здоровается. И ведь друзья не здоровались, вот в чем дело. Мне было так обидно, ужасно.
Не дай бог, когда Баскаков (первый заместитель председателя Госкино СССР. - Прим. авт.) как грохнет на тебя двумя кулаками по столу: "Ваше место в прокуратуре!" - и все вещи летят наверх. А в те времена прокуратура - это было очень страшно. Или когда однажды мама, переживая за меня, вся покрылась экземой. Понимаете, как это страшно? Или когда генерал КГБ едет в машине с моей знакомой и говорит: "Вы в одном доме живете с Германом? Передайте ему, чтоб поменьше болтал".
А болтал я не потому, что я какой-то очень уж смелый. Более того, я вам так скажу: во мне всегда существовало два страха. Один страх - позор за плохое кино. Второй страх - начальство. И лишь на какие-то миллиметры страх сделать плохое кино был больше второго страха. Но все-таки я всегда осознавал: я - сын известного, любимого партайгеноссе, писателя... Я всегда знал, что могу обратиться к кому-то из тех уважаемых людей, вплоть до Героев Советского Союза, которые любили папу. Потом, у меня всегда было куда отступать. Была дача, которую можно было продать. Был очень богатый и достойный дядя в Америке, эмигрант первой волны, который в тяжелые для меня времена прислал мне "Волгу". Такая на киностудии была еще только у Хейфица. Хотя я должен сказать - и тогда тоска на меня наваливалась страшная. Я однажды месяц пролежал, отвернувшись к стенке".
МАТЬ И МАЧЕХА.
"Сейчас иногда думаю: я бы после "Проверки на дорогах" уехал... Я просто выдержал свою жизнь. Но если бы не Светлана, я бы ее не выдержал. Уехал бы. В Америку. Мне там предлагали работу. Но меня такая вдруг жуткая тоска объяла. И черт его знает, почему так. Непонятно, почему человека к родному гнезду тянет. И почему это будет всегда тебе сниться, это будет всегда тебя мучить. Поэтому-то я и считаю, что лучшее, что создал, - это "Хрусталев, машину!". В этой картине я рассказал о стране. Не сюсюкая, не умиляясь березкам - березок в Канаде больше, чем у нас. Я рассказал о России, как о суровой мачехе для своего народонаселения. Я и начал снимать ее, чтобы мое детство, тот мир, который был вокруг меня и во мне, мир, к которому мы испытывали и любовь, и ненависть, не перестало существовать, а сохранилось на куске кинопленки".
ОЩУЩЕНИЕ ВОЙНЫ.
"А может быть, вся моя проблема в том, что я всю жизнь живу с ощущением войны. И не потому, что нашпигован рассказами папы, и не потому, что я сам - мальчик военных лет, я видел самолеты, уходящие на бомбежку, видел самолеты, которые меня бомбили... Нет, просто во мне сидит это чувство ужаса. Ужаса пленника концлагеря. Мне кажется, я легко смог бы снять фильм про концлагерь. У меня такое чувство, будто я там был, что меня били, что я сидел под лагерной лавкой, что я воров боялся..."
СРЕДСТВО ОТ УНЫНИЯ.
"Что меня спасает от уныния? Наверное, стихи. Знаете, у меня в последние годы, с момента, как просыпаюсь, в голове звучат хорошие стихи. Я с ними хожу, хожу, даже мешает иногда - не отвлечься от них. Вот сегодня в ушах тарабанит лермонтовское: В глубокой теснине Дарьяла,/ Где роется Терек во мгле,/ Старинная башня стояла,/ Чернея на черной скале.
Вот как это можно написать - "роется Терек"? Не шумит, не протекает - "роется во мгле". Как так устроен человек, чтобы такие строчки из себя сочинить? После этого хочешь не хочешь, а веришь в человека, в то, что восприимчив к прекрасному, к божественному. Просто сейчас многих, потерянных для искусства, надо возвращать к нему. Помните слова академика Лихачева? "Если нет искусства, тогда зачем все?" Это расшифровывается просто: тогда мы существа, которые поедают окружающий мир, переводят его в удобрение, создают себе подобных и не очень заботятся о них".
ВЕРА.
"Я человек религиозный, хотя, конечно, не ортодоксальный, но я верю: есть нечто, что является больше, чем мать-отец. Я верю, что что-то существует, и не верю в то, что превращусь в ничто, поскольку существует закон энергии. Чем-то я буду, а уж чем, понятия не имею".
(Из интервью "Российской газете")
Господи, ты знаешь лучше меня, что я скоро состарюсь. Удержи меня от рокового обыкновения думать, что я обязан по любому поводу что-то сказать.
...Спаси меня от стремления вмешиваться в дела каждого, чтобы что-то улучшить. Пусть я буду размышляющим, но не занудой. Полезным, но не деспотом. Охрани меня от соблазна детально излагать бесконечные подробности. Дай мне крылья, чтобы я в немощи достигал цели.
Опечатай мои уста, если я хочу повести речь о болезнях. Их становится все больше, а удовольствие без конца рассказывать о них - все слаще.
...Об одном прошу, Господи, не щади меня, когда у тебя будет случай преподать мне блистательный урок, доказав, что и я могу ошибаться... Если я умел бывать радушным, сбереги во мне эту способность. Право, я не собираюсь превращаться в святого: иные из них невыносимы в близком общении. Однако и люди кислого нрава - вершинные творения самого дьявола. Научи меня открывать хорошее там, где его не ждут, и распознавать неожиданные таланты в других людях.
* Эта молитва, которую читал еще отец - писатель Юрий Герман, - всегда была над рабочим столом Алексея Германа.