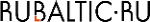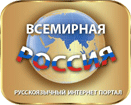Вызов русской идентичности
О природе заимствований в истории
Для того чтобы модернизировать Россию, и при этом на постоянной основе, необходимы заимствования, начиная от бытовых и технологических и кончая культурными и духовными. Национальное своеобразие не может держаться на одних только принципах охранения. Для развития своего национального начала в высшее национальное качество необходимо принимать в себя и чужое. Хотя бы потому, что ни одна нация, ни одна локальная цивилизация не обладают творческим потенциалом и средствами для достижения значимых результатов по всем направлениям исторического, культурного и духовного творчества.Так начинается массовое бегство нации от национальной традиции и на этой основе от самой себя и, следовательно, из своей собственной истории. Бегство от чего-то всегда завершается бегством к чему-то, в данном случае в историческое ничто. Национальный нигилизм превращается в разрушение и порядка очевидностей, и порядка смыслов — окончательно превращаясь в аксиологическое насилие над реальностью. И хотя «история — это не только преемственность позитивных традиций. Это и преемственность нерешенных задач при отсутствии традиций их оптимального решения»,1 это еще не основание для отказа от самих традиций и, следовательно, от пре-емственности, от самой логики традиционности. Ибо традиция обязывает и мобилизует в истории, в то время как свобода от традиции тяготится обязанностями перед собственной историей и культурой в любых формах и проявлениях, лишая нацию самого творческого духа модернизационного прорыва.
И это не должно удивлять, так как традиция не есть просто прошлое, по случаю пришедшее из истории и сохранившееся в современности. Традиция — это постоянно обновляющееся достояние прошлого, которое постоянно переживается в качестве актуальной нормы. Традиции — это синтез прошлого с современностью, древнего принципа с нововведениями, постоянное взаимоприспособление прошлого, настоящего и будущего друг к другу. Это то, чем живет преемственность в истории, а значит, и сама история. Так, вестернизация, затаптывающая национальную традицию, входит в противоречие с целями и задачами исторической модернизации, превращается в нечто совершенно противоположное самому духу модернизационного прорыва.
Она входит в противоречие с модернизационными процессами современности еще по одной, уже психоаналитической, причине. Очень часто вестернизация на острие реализации неограниченных свобод личности превращается в проповедь целей и ценностей совершенно разнузданной свободы. Провозгла-шая право на разрушение старой системы угнетения, установленных правил, социального и политического порядка, вестернизация, вооруженная модернизационной идеей, оказывается одновременно с этим вооруженной и идеей раскрепощения мира человеческого подсознательного, его самых темных и разрушительных интенций. От имени модернизации происходит ослабление всех структур социального подавления, преодоление всех табу. Движение социального протеста, усиленное культом неограниченного самовыражения, бросает вызов всем структурам Super ego. В связи с этим «освобождение от традиционных ограничений ведет не к обогащению человеческой личности и ее творческих способностей, к освобождению от вины, беспокойства и недоверия, а, напротив, — к высвобождению и вспышке агрессивно-деструктивных стремлений, которые прежде подавлялись»2.
Вместе с тем, как бы ни сочетались процессы вестернизации и модернизации в современной истории, в любом случае, и это нетрудно заметить, модернизация содержит выраженную европейскую составляющую. И это закономерно, ибо любые модернизационные процессы современности несут в себе европейский вектор развития, соотносят себя с ним, есть процессы неизбежного заимствования исторического опыта европейского развития, как региона наиболее продвинутого с точки зрения осуществления целей и задач формационного прогресса человечества. Но все это образует лишь формационную часть модернизационных процессов современной истории, но у них есть еще и цивилизационная составляющая. И она в своем взаимодействии с формационной обнаружила ряд интересных и весьма поучительных закономерностей.
В частности, западный исторический опыт, западные ценности и идеалы, неправильно осмысленные и примененные, из средства модернизации в истории легко могут превратиться и превращаются в опасный вирус, способный стать источником многих заболеваний, вплоть до культурной шизофрении. В любом случае политических лидеров, полагающих, что они одним волевым усилием, руководствуясь историческими аналогиями и узко понятой экономической/политической целесообразностью переживаемого момента, способны перекроить национальную культуру и на этой основе переформатировать сам тип исторического развития своих стран, неизбежно ждет сокрушительный провал.
Как доказывает мировой исторический опыт модернизационных процессов, и особенно за XX столетие, все они питаются соками цивилизационной идентичности и являются тем успешнее, чем больше связаны с саморазвитием собственных цивилизационных основ. В частности, чем больше подчиняют всякое историческое заимствование, включая сюда и цивилизационное, целям и задачам саморазвития основ собственной цивилизационной локальности, генетического культурного кода своей, а не чужой истории.
И это закономерно. Историческая модернизация требует пассионарного сознания и воли. И то и другое питается цивилизационной идентичностью, идеями, идентичными целям и задачам саморазвития локальности данной цивилизации, а не разрушения. Что за модернизация, которая заканчивается сломом основ цивилизационной идентичности и историческим коллапсом цивилизации? Вот почему цивилизационное эпигонство, не подпитываемое идеей цивилизационной и национальной идентичности, а тем более цивилизационный переворот, подрывают источники пассионарного сознания, пассионарных идей и воли, ибо подрывают питающий их источник — локально-цивилизационную идентичность и на этой основе — перспективы самой исторической модернизации.
Неудивительно, что локальная цивилизация, в цивилизационном отношении далеко стоящая от европейской, западной, вместе с тем по своей цивилизационной сути может оказаться ближе к ней, ближе к архетипической идее современного Запада — идее развития, перманентной исторической модернизации. Что такое Запад? В свое время он ассоциировался для нас с французским просвещением, позже с немецким романтизмом, еще позднее с европейским социализмом, для большинства современных эпигонствующих западников он вообще неотделим всего лишь от школы чикагских монетаристов. Все это Запад, но очень многоликий и весьма не тождественный друг другу.
Запад вообще не есть та или иная идеологическая догма, наиболее актуально переживаемая самим Западом. Это особое состояние культуры и духа, пронизанного пассионарностью, духом свободы и креативного творчества. Это состояние постоянного самоизменения и, следовательно, беспощадной самокритики и самоопределения себя состоянием постоянной неудовлетворенности собой. Именно оно рождает истинный дух Запада, а не эпигонствующая и болезненная сосредоточенность на новейших идеологических «измах», переживаемых современным Западом.
По этой причине быть западником — это не просто существование в раз и навсегда организованном по меркам той или иной западной идеологии со-циальном пространстве. Это полнокровная жизнь в истории, в историческом времени и традиции, рождающая каждый раз проблему связи настоящего с прошлым и будущим и через ее решение реализующая прорыв к новым формам исторического творчества и человеческого бытия в истории. Настоящее само по себе несамодостаточно в истории. Оно грандиозно, если только вырастает из корней всего своего прошлого и находится в союзе со своим будущем, если только оно имеет его.
В этом смысле отнюдь не обязательно быть Западом для того, чтобы быть вровень с ним, ничем и ни в чем ему не уступать, быть подобным ему в главном — в овладении идеей развития. Для этого нет никакой необходимости в сломе основ своей локально-цивилизационной идентичности. В этом отношении весьма показательным является исторический опыт Японии, ее отношений с западной цивилизацией. На протяжении последних полутора столетий —начиная с эпохи Мэйдзи 1867—1868 гг., в отличие от всех предшествующих, Япония живет в историческом режиме постоянных заимствований: культурных, научных, технологических, социальных, экономических, политических. Но ни разу и ни в какой мере здесь не допускали, чтобы эти заимствования позволили превратить страну в нечто, что отдалило бы ее от основ собственной национальной культуры и цивилизации, от базовых оснований национальной и исторической идентичности.
Ведь речь всегда шла лишь о модернизации страны, японской цивилизации, а не о том, чтобы превратить ее в другую страну, в иную цивилизацию. И дело не могло обстоять иначе, так как для японской интеллигенции, а уж тем более для японской политической элиты, Япония — это Япония, а не «эта страна». Они не позволили на протяжении целых полутора столетий в процессе модернизации страны и нации ни разу навязать им изменений масштаба и глубины сущности цивилизационного переворота. Иными словами, таких изменений, которые коснулись бы генетического кода истории Японии, духовных основ истории в основах души каждого японца, национальной иерархии ценностей и символов веры, самого способа проживания Японией своей истории, культуры, социальности и духовности.
В связи с этим отнюдь не случайно, что Японии полностью удались процессы исторической модернизации. А они, думается, потому и удались полностью, что их удалось совместить со спецификой японской цивилизации и культуры. Они не стали сломом самой японской цивилизации и культуры, ибо были, есть и остаются всего лишь средством, а не целью бытия Японии в истории, средством ее модернизации как Японии, а не превращения в нечто иное. Японский дух был, есть и остается хозяином дома, задающим все параметры и определяющим направленность модернизационных процессов в качестве национально ориентированных, аутентичных генетическому коду локальности японской цивилизации. Это во многом упростило решение проблем исторической модернизации страны и, главное, позволило обойтись без великой духовной смуты и исторических потрясений, без национальной и исторической дезориентации и деморализации нации. А они всякий раз начинаются там и тогда, где и когда нации навязываются не просто процессы модернизации, а цивилизационного переворота — бегство от основ своей национальной культуры и цивилизации.
В России произошло все с точностью наоборот. И это не случайно, так как в ней, в структуре ее исторического самосознания и действия на постоянной основе доминирует одна и та же и, надо признать, весьма разрушительная для основ ее существования в истории интенция. Что бы ни делать, все и всегда делать с оглядкой на сторону, делать по идеалу, заимствованному со стороны, а не взращенному и выстраданному собственной исторической и национальной почвой. Загромождая сознание некритически заимствованными теориями и новомодными политическими идеологемами, мы, ко всему прочему, пытаемся обязательно придать им мессианский масштаб спасения и оправдания всей нашей и человеческой истории. Начинаем творить из себя сотериологический центр спасения чуть ли не всего человечества, в мессианских ходах собственной мысли окончательно запутываясь в собственной истории, до предела проблематизируя в новой исторической ситуации постановку и решение жизненно определяющих для себя идентификационных вопросов: кто мы, какова наша история, наши культурные святыни и духовные идеалы? Что мы в человечестве и что человечество для нас? А вслед за этим и поиск своих ответов на новые вызовы мировой и собственной истории.
Происходит такое не первый раз. В начале XX столетия, наблюдая хаотизацию идентификационных сущностей России в революционных ломках 1917 года, В. В. Розанов — один из самых чутких философов к сути русских национальных парадоксов и противоречий в истории констатировал: «Мы все астрономически прикидывали и мерили на свою русскую действительность вместо того, чтобы трудолюбиво жить в этой русской действительности; жить, заботиться и улучшать камешек за камешком. Мне очень хорошо памятно, до какой степени загроможденность русской души теориями — есть постоянный русский факт. Душа у нас воистину литературная и воистину незрячая. Душа мечтательная, фантастическая и практически — немощная. И мы запутались в громадных построениях, рассчитанных на века и даже на вечность, в каких-то вечных планах истории, тогда как человек едва ли имеет право считать более чем на век. До какой степени, кроме незыблемых нравственных законов, вроде вот «десяти заповедей», кроме основных законов логики, — вообще все прочее зыбко и волнуется в истории. И переменяется все до корня ранее, чем успеют перемениться два-три поколения»3.
И все это устойчиво доминирует в истории России, на наш взгляд, по одной конечной и простой причине — по причине доминирования в России, в субъектной основе ее исторического творчества вненационального субъ-екта, до конца не идентифицирующего себя с ценностями исторической и национальной Россией, как бы живущего в России, но отнюдь не сущностью самой России. Вот почему любая проблема модернизации страны, чуть ли не заимствование новой модели велосипеда, совмещается с самым крутым цивилизационным переворотом, со сломом базовых структур идентичности русской нации. С потерей же идентичности теряется органическое чувство жизни, и человек неизбежно втягивается в существование с потерянным основанием равновесия. Все сдвигается со своих положенных, всей историей и культурой выстраданных мест. Жизнь уже не скрепляется силой традиции. Человек восстает против самих духовных основ своего бытия. Духовная пуповина, связывающая душу человека с его историей, перерезается. Начинается жуткий разгром всех сердечных верований.
Русский дух далеко не во всем, не всегда и не до конца является хозяином у себя в собственном доме, а потому не определяет основные параметры и направленность модернизационных процессов в России, не доводит их до подлинно национальной ориентации, аутентичной генетическому коду локальности собственной цивилизации, ее русской и российской сущности. Это до предела усложняет решение проблем исторической модернизации страны, порождает духовную и историческую смуту, втягивая страну и нацию в процессы цивилизационной деградации основ локальности русско-российской цивилизации. В нашей истории сложилась трагическая в своей основе преемственность — исторического творчества и развития через радикальный разрыв с традицией, через тотальность отрицания в своей истории ее национальной сущности. Мы ею не воодушевляемся, мы ее уничтожаем в идентификационных мутациях основ собственного национального самосознания.
В итоге вместо реальности исторической модернизации, основанной на принципах избирательной и адаптирующей модернизации — заимствования только того, что может быть ассимилировано национальной историей и работать на идею ее прогресса в качестве национальной, мы получаем реальность цивилизационного переворота. И все это происходит потому, что вненациональная Россия придает совершенно иной, извращенный смысл самой идее исторической модернизации России, самому идеалу бытия России в культурном универсуме человечества, месту и значению самой процедуре заимствования и заимствованным историческим и культурным ценностям в структуре национальных ценностей самой России.
В самом деле, для того чтобы модернизировать Россию, и при этом на постоянной основе, необходимы заимствования, начиная от бытовых и тех-нологических и кончая культурными и духовными. Национальное своеобразие не может держаться на одних только принципах охранения. Для развития своего национального начала в высшее национальное качество необходимо принимать в себя и чужое. Хотя бы потому, что ни одна нация, ни одна ло-кальная цивилизация не обладают творческим потенциалом и средствами для достижения значимых результатов по всем направлениям исторического, культурного и духовного творчества.
Каждая нация ограничена в самой себе, в своей истории, культуре, духовности, не может стать всем человечеством, а потому каждая нация живет взаимодополняющими способностями и возможностями друг друга. Вот почему, утверждая свою культуру с тем, чтобы отвергнуть другую, мы тем самым отрицаем самих себя и исторические перспективы собственного развития. Всякая автаркия в истории создает один из самых худших видов зависимости от внешнего мира — от того в нем, что через акты заимствования и творческой трансформации должно войти в состав источников собственного саморазвития.
С этим связан сам феномен многообразия локальных цивилизаций и культур, само этническое и национальное многообразие истории, которое лежит в основе стабильности такой сверхсложной системы как человечество и его всемирной истории, ибо только через многообразие форм и результатов цивилизационного и культурного творчества человечества обеспечивается стабильность его бытия как человеческого. С принципиальной ограниченностью всякого национального начала в истории связан и сам феномен заимствования в истории, он — следствие бытия человечества по логике взаимодополняю-щих способностей, по логике преодоления своей ограниченности в истории за счет творческого потенциала культуры иных наций и цивилизаций. Но для того, чтобы заимствовать, необходимо жить в культурном универсуме, облучать и обогащать себя культурой всего человечества. Нельзя быть частью человечества, не живя в человечестве и всем в человечестве. Одно неотделимо от другого. Но в условиях России все эти сами по себе очевидные истины приобретают эффект обратного и разрушительного действия для основ исторического бытия страны.
Во что превращается идеал жизни в культурном универсуме человечества? В идеал слома основ своей идентичности — цивилизационной, культурной, духовной, в идеал бытия в истории либо по логике бытия иных цивилизаций, культур, наций, либо по логике бытия всего человечества, по логике абстрак-ций от общечеловеческого бытия, разрушительных для основ всякого национального бытия. В лучшем случае идеалом становится мультикультурная, мультиэтническая, полиязыковая Россия. Но в таких государствах редко наблюдается стабильность. Ее добиваются либо благодаря жесткому авторитарному режиму, либо благодаря наличию в государстве доминантного этнокультурного стержня, активным практикам артикуляции его присутствия в истории. Ни демократии, ни равенства, ни свободы, ни производного от них свободного рынка недостаточно. Они не спасут от распада страну, если только она не связана нацией — ценностями национальной идентичности, сущностями коллективной лояльности и солидарности с выраженными этнокультурными маркерами. Именно в связи с этим есть все основания констатировать самое печальное.
Сознание русской интеллигенции так и не доросло до уровня национального. Что этому помешало? Сперва народническое перерождение, позже марксистское вырождение и, наконец, полная либеральная деградация. На-циональное сознание русской интеллигенции в XIX столетии странным образом эволюционировало от простого народопоклонения до понимания народа как простонародья, противоположного культурному слою нации. Так впервые произошло культурное расщепление сознания нации на сознание культурной элиты и простонародья. Для народнического самосознания культурный слой нации оторвался от нации и оказался противоположен нации как носительнице народной правды жизни и главных ценностей национального самосознания. Отсюда и абсолютизация народа в народническом самосознании. И в этом была часть исторической истины.
В исторических итогах петровских реформ произошла резкая европеизация высшего культурного слоя нации и вслед за этим ее отрыв от культурных национальных традиций. Русская интеллектуальная элита перестала чувствовать себя органическим слоем нации и русской жизни, она оторвалась от народных корней. Но национальное ядро сохранилось в «народе», именно он и только он живет подлинной национальной жизнью, в нем есть Бог и правда жизни, утерянные европеизированным слоем нации. Все это и в таких идейных установках было осознано народническим самосознанием и, сверх того, абсолютизировано. В итоге единое национальное сознание сделалось невозможным, оно национально расщепилось, возможным оказалось только народническое сознание.
В таком качестве сознание русской интеллигенции было унаследовано марксизмом, который в XX столетии добавил к этому полное разложение по-нятия «нация» на абсолютно враждебные друг другу классы. Он попытался без остатка растворить нацию в классах и классовой борьбе. Национальное сознание стало невозможным в принципе, ибо всякое национальное в истории стало преодолеваться классовым и во имя классового эксклюзива исторической миссии пролетариата. В конце XX столетия национальное сознание русской интеллигенции, основательно дезориентированное марксистскими идеологе-мами, в лице своего либерального авангарда «доразвилось» до крайних форм национального нигилизма — до переноса всех своих недостатков и комплексов на народ, до окончательной потери адекватных представлений о собственной нации, а значит, и о собственной истории, культуре, духовности.
Назовем вещи своими именами. Ненависть к собственной нации, к своеобразию ее исторического пути, духовности, к действительным и мнимым недостаткам порой просто зашкаливает. Породив либеральными реформами хаос в стране, доведя ее до состояния дичайшего капитализма, обремененного технологическим вырождением промышленности, распадом культурной матрицы и связей социальной солидарности, демографическим вырождением, российский либерализм делает вид, что он ко всему этому и ко многому друго-му, но не названному, не имеет никакого отношения. Как бы все это состоялось без его прямого и активного участия.
После погромных 1990-х годов вытесненный на обочину общественно-политической жизни российский либерализм занял позицию стороннего наблюдателя за конвульсиями больной страны. А теперь из созданного для себя идейного гетто пытается прописать ей лекарство, которое окончательно должно добить ее как геополитическое, историческое и национальное явление. Вместо скрупулезной и конкретной «работы над ошибками» либерального проекта модернизации России, вместо эволюционных методов преобразования данной исторической реальности и продолжения ее лучших тенденций развития вновь — миропотрясательные проекты, не считающиеся с решением задач простейшего самосохранения страны и нации.
Наши реформаторы склонны декретировать невозможное в истории, постоянно подменяя вопрос о том, что есть, вопросом о том, что быть должно, окончательно втягивая мысль и действие в безвыходный утопизм. И вновь все плохо, точно так же, как было плохо в конце романовской России, в конце советской России. Вновь система не поддается реформированию, вновь все надо разрушить, и не просто до основания, но и само основание, на котором еще возможно существование русских как русских и России как России.
Никто не будет спорить с тем, что современная Россия — больной социум. Но чем больна страна и нация? Может быть, осуществленным от имени либерализма и во имя торжества либеральных идей геополитическим распадом страны, превратившей впервые в истории России русских в разделенную нацию? Или асоциальной приватизацией собственности, породившей тотальное обнищание и ему сопутствующее моральное одичание масс? Быть может, современная Россия больна разгосударствлением общества — больным государством, во имя чистоты догматов либеральной теории попытавшимся снять с себя все цивилизационные, социально нагруженные функции по организации и управлению обществом? Или, хуже того, больна преступными попытками разъять все связи, связующие государство и нацию и под видом либерализации государства превратить его в орган, полностью отчужденный от нации и национальных интересов? Отсюда и совершенно болезненное сосре-доточение на идее сокращения всего и вся в России: государства, населения, бюджетников, армии, науки, учителей и школ, пациентов и больниц.
Отсюда и естественность ощущения, что наша элита, превратив геополитическое пространство собственной страны в пространство свободной экономической охоты, живет в ней вахтовым методом — до тех пор, пока сохраняются условия и для такой охоты, и для вывоза капиталов. В этой связи настораживает количество собственников недвижимости за границей россий-ского происхождения (в одной Великобритании около 300 тысяч) и масштабы складированных капиталов (в одних США свыше 500 млрд. долларов). В конце концов, может, наш социум болеет распадом стандартов высокой культуры и идеалов духовности, базовых ценностей национального самосознания — всей сферы идентификационных сущностей русской нации?
Или болеет разрушением связей исторической преемственности большой истории великой страны — попытками вообще выйти из контекста русской истории как русской? Или приватизацией права во имя торжества идей и интересов олигархического капитализма, припадочным энтузиазмом и моральной разнузданностью новорусского собственника?
Опустимся на уровень более конкретных проблем и продолжим их перечисление. Может быть, современная Россия страдает от технологической отсталости; неэффективной, примитивно-сырьевой ориентации в развитии экономики; от вымирания населения; деградированной социальной сферы; коррупции и беспредела; окончательно разнуздавшейся бюрократии; бизнеса, не способного освоить ценности социально ориентированной экономики и социального партнерства; террористической угрозы на Северном Кавказе; в конце концов, от массы во всем разочаровавшихся людей, после всех потрясений от имени либеральных идей погрузившихся на дно жизненной безысходности, потерявших реальные возможности для того, чтобы «делать себя»? Разве не всем этим болеет современная Россия? Оказывается, вовсе нет. По мнению отцов либеральной аналитики, перечисленное — всего лишь следствия, но никак не диагноз самой болезни, которая значительно глубже. Так в чем же она состоит, в чем анамнез российской трагедии?
Не так давно в «Новой газете» была опубликована статья «Вперед нельзя назад!». Есть там такое откровение российского либерального разума — современная история России страдает «болезненностью России как исторического сообщества, как определенного типа культуры»4. Россия больна не болезнями-противоречиями экономических, политических, социальных и ментальных процессов, в ней происходящих, а самой своей сущностью — своей россий-скостью, как и все или почти все русские в России — своей русскостью. В поисках конечных причин великих потрясений России в XX столетии и в частности оглушительного провала так называемых либеральных реформ российский либерализм не нашел ничего более оригинального, как в собственной идейной бесплодности и практической несостоятельности обвинить всю историю России, всю русскую культуру, сам русский народ — его духовные сущности. Но стоит ли искать причины там, где их просто нет?
Это уже объявление войны не какому-то политическому режиму, не какой-то политической идеологии, в конце концов, не какому-то политическому лиде-ру, а именно нации и всему, что за ней выстраивается — национальной истории, культуре, духовности. И что самое поразительное, все это даже не скрывается. «Менять надо не только правительство Путина и даже не только путинский режим, а вместе с ними надо преодолевать глубинные социокультурные основания российской цивилизации, менять надо ее парадигму» (там же). Но так ли уж правильно поставлен диагноз болезням современного российского социума и ту ли самую, единственно верную терапию ему прописывают? Есть самые серьезные основания во всем этом усомниться. Ведь после сказанного самое меньшее, что необходимо предпринять, — это окончательно закрыть исторический проект под названием «Россия», развеять по ветру мировой истории все культурные смыслы и духовные ценности русской нации, а вслед за этим и саму нацию, то есть людей, с ней себя идентифицирующих.
И прежде всего, «о нашей национальной болезни» — специфически человеческом потенциале русского человека. Есть стойкое ощущение, что мы плохо знаем, кто мы, мы — русские. Но у либеральной России (или той, которая так хочет себя называть) в этом вопросе нет никаких сомнений, ей давно все известно: «мы-русские» — это носители «русской болезни». Но что это за болезнь, каковы ее основные проявления? На этот счет есть готовый ответ от имени классиков великой русской литературы. Это компендиум всего отрицательного, с величайшей тщательностью выуженный из русской литературы критического реализма в ее многовековых поисках главных ценностей-святынь и смыслов человеческой жизни. И получается, что русский тип личности должен осмысливаться только через такие определения, как «пародия человека», «мертвые души», «свиные рыла», «человек ни то ни се», «отверженные», «уроды», «бесы», люди «недоделанные» (понимаемые через обломовщину, карамазовщину, шариковщину), «гамлетики», «кисляи», неспособные при-нять никакого решения, то есть живущие «навозопроизводителями», и т. п.» («Вперед нельзя назад!»).
Мы категорически против того, чтобы выводить все мерзости современности только из сущности русскости и вытекающей из нее российскости. Необходимо поставить непреодолимый заслон практикам унижения национального достоинства русского человека — и неважно, из каких побуждений — и только потому, что он русский и в таком качестве не вписывается в некие умозрительные проекты его «осчастливливания». Именно зоологическая несовместимость с собственной нацией, элементарное непонимание и высокомерное неуважение к самой сути русскости в истории России неоднократно становились источниками практик произвольного, какого угодно обращения с русской нацией и от имени коммунизма, и от имени либерализма. Есть стойкое ощущение, что часть нашей элиты никак не может простить исторической и национальной России, что она собою отделяет их от так вожделенного ими Запада. И выход из этого ментального тупика в отношениях с собственной нацией очевиден. После всех исторических потрясений в России настало время предельной определенности. Пришла пора предоставить русским в России право быть и утверждать себя в своей истинной русскости, с ее достоинствами и неизбежными недостатками — право на себя и свое в своей собственной истории.
Не будем спорить с тем, что русский человек не является идеальным образованием мировой истории, тем более пройдя через историческую мясорубку XX столетия, одного из самых трагических в истории. Но трагизм XX столетия для русского человека усугубляется еще и тем, что он стал веком беспощадных экспериментов над его национальной душой — всей системой идентификационных сущностей, которыми она не только жила, но и спасалась в своей истории. Ведь острие и коммунистической, и либеральной модернизации России в первую очередь было направлено на беспощадную борьбу с национальными началами жизни русской нации. Русский идентитет на протяжении всего последнего столетия мешал осуществлению «великих идей» как русского коммунизма, так и русского либерализма.
Странная закономерность в осуществлении модернизационных процессов в России: все они начинаются с борьбы с ценностями исторической и национальной России, считают своей священной миссией начать историю России чуть ли не заново, с чистого листа — со «светоносных идей» или коммунизма, или либерализма. И логика этой борьбы прозрачна: национальные ценности грубо противопоставляются политико-идеологическим, как с ними принципиально несовместимые, и политическими средствами, включая сюда и средства беспощадного насилия, начинают изживаться из национальной истории. В итоге она перестает быть национальной, с какими-то выраженными маркерами национальной идентичности.
Идентификационный хаос, в этом случае рождаемый, порождает и хаотического субъекта с хаотическим национальным самосознанием. Отсюда и хаотичность, непрогнозируемость русской истории, ибо она не имеет до конца адекватного своей национальной сущности национального субъекта. Так что, если говорить о типе современного русского человека, то не совсем понятен его истинно русский статус. Русский человек, после всех идентификационных экспериментов и связанных с ними исторических потрясений XX столетия, явно находится в состоянии распада — не совсем в русском состоянии. Мы, русские, во многом утратили главные смыслы собственной значимости, а вслед за этим и главные смыслы своего присутствия в собственной истории.
Кроме того, трагедия в человеческих судьбах всегда амбивалентна, она чревата не только тем, что возвышает, но и тем, что разрушает человеческое в человеке. Опуская человека на дно жизненного отчаяния, трагедия начинает формировать человека по своему образу и подобию — предъявляет ему требования, которые могут оказаться выше его способности им противостоять, а порой и просто их пережить. Так трагедия начинает формировать разные типы людей и отнюдь не только с самыми лучшими качествами. Но при всем при этом именно в XX столетии русский человек дал образцы высших проявлений человеческих качеств, таких, которыми по праву может гордиться любая нация. Или Вторую мировую войну выиграли «навозопроизводители»?
Такая концентрация национального негатива в сфере национального самосознания, чем всегда страдала «критически мыслящая русская интеллигенция», в лучшем случае отдает явной патологией безмерного нигилизма, а потому и не оправданного самобичевания и самоуничижения. Истина без любви вообще делает человека не просто во всем навязчиво критическим до исключающего всякое бытие нигилизма, а еще и патологично зависимым от критичности, и только от нее. В итоге наступает момент, когда все это оказыва-ется уже за пределами всяких норм приличия, превосходит все возможности и всякое терпение. Не говоря уж о том, что вся эта игра на авторитете русской литературной классики еще и явное лукавство.
Во-первых. Литература потому и есть явление художественной мысли, что она склонна к гиперболизации жизни и ее противоречий, а потому неизбежно создает дистанцию отчуждения между литературным образом и реальной жизнью реального человека.
Во-вторых. Литература потому и есть явление критической мысли, что направленно ищет жизненный конфликт, им живет и его разрешает через преодоление того, что в человеке пытается преодолеть человека. Поэтому она и превращает поле жизни в пространство непрекращающихся противоречий. Но в своем обличительном пафосе литература часто увлекается, уходит от нормальных проявлений жизни — ищет и находит в ней не норму, а отклонение. Но ни одна живая культура и в ней ни один реальный человек, а не художественный образ, не живут только конфликтами и только отклонениями, хотя бы в том смысле, что всякая культура и в ней всякий человек живут еще и просто жизнью, а не одними потрясениями жизни.
В-третьих. Все это, всю эту диалектику души человека, зажатой жерновами страданий между святостью добра, служения высшим смыслам человечности и агрессией падших начал человеческой природы, русская литература в себе всецело отразила. Поэтому мы имеем дело с явно тенденциозной интерпретаций образа русского человека в русской литературе и образа самой русской литературы. Попытка связать его с заштатной русофобией — это явный навет на истинное содержание и состоявшуюся миссию русской литературы в мировой и национальной культуре. В связи с этим в противовес представленным характеристикам, так сказать, со знаком минус не составило бы большого труда привести иные оценки русского человека в русской литературе, со знаком плюс. Но и без этого вполне очевидно: русская литература стала великой не только благодаря своему критическому пафосу и беспощадному анализу пороков русского человека, но еще и благодаря величию характеров русского человека в ней, русской литературе осмысленных. Надо оставить русскую классическую литературу в покое, она никак не может стать идейной основой русофобии.
А что же дальше, для чего понадобился сфальсифицированный образ русского человека как носителя своеобразной и непреодолимой патологии — «русской болезни»? Для того чтобы облегчить поиски второго измерения «русской патологии» — выйти на «русскую систему» как носительницу извращенной культуры и с ней связанных больных ценностей и неэффективных способов мыслить, принимать решения и действовать. Она, эта «русская система», возникает по одной простой причине: больной субъект рождает больную культуру, носителем которой он и становится. Так возникает образ «другой России» — образ врага всех модернизаций в истории России. Именно «она несет в себе святорусскую архаику, засилье традиции, имперско-вечевое сознание толпы, соборно-авторитарные культурные стереотипы, самодержавно-общинные ценности, деление людей на «мы» и «они», алчную погоню за властью, великодержавность, вождизм. Это — имперская лошадь, на которой «мы-русские» едем, начиная с Рюриков. Но последние триста лет такая культура не выдерживает конкуренции на мировом рынке культур и все более выглядит, как полудохлая кляча» («Вперед нельзя назад!»).
Надо ли все это подробно комментировать? Но в таком случае надо ли было все это так обильно цитировать? Надо, чтобы было понятно, с чем мы имеем дело в лице современного радикального российского либерализма. Об этом чуть позже, а сейчас несколько реплик.
Прежде всего, надо научиться считаться с фактами: за последние триста лет «такая культура», независимо от того, какими эпитетами ее наделяют, выдержала борьбу за существование. Она вооружила народ такими ценностями, такой духовной глубины и силы, которых с лихвой хватило для мотивации всех форм исторического творчества — для того, чтобы противостоять всем вызовам исторической судьбы национальной и мировой истории. Судя хотя бы по тому, что мы все еще существуем, наша история за последние триста лет все-таки состоялась. И даже больше того — состоялась в качестве великой истории, решившей и для себя, и для всего человечества немало великих задач.
Как бы ни хотелось все превратить в рынок, но нет мирового рынка национальных культур, они не конкурируют между собой на рыночной основе. Ибо культура, особенно в своих высших состояниях — принципиально внерыночный феномен, вот почему там, где есть рынок, любая истинная культура начинает деградировать. Любая национальная культура, независимо от степени своего развития, есть в себе и для себя самодостаточный феномен. Для своего на-ционального субъекта она единственно возможная форма существования его души, и, как следствие этого, для нации ее культура существует вне законов конкуренции в качестве абсолютной самоценности. Но вот что показательно: едва национальную культуру начинают тестировать политическими критериями — это первый признак грядущих проблем в ее развитии как культуры.
(Продолжение следует)
Примечания
1 Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? М., 2005. С. 568.
2 Франкл. Дж. Цивилизация: утопия и трагедия. М., 2006. С. 196.
3 Розанов В. В. Уединенное. М., 2006. С. 137.
4 Ю. Н. Афанасьев, А. П. Давыдов, А. А. Пелипенко. Вперед нельзя назад! «Новая газета». № 115. 16. 10. 2009. Статья по своему идейному потенциалу имеет в высшей степени откровенный и явно программный характер. Уже только это – достаточное основание для того, чтобы уделить ей особое внимание. В ряду прочего оно оправдано еще и тем, что позволяет приблизиться к ответам на два между собой взаимосвязанных и прин-ципиальных для современной России вопроса: какие идейные мутации происходят с российским либерализмом в современности и почему либеральная модернизация России шаг за шагом провоцирует отчуждение России от либеральной идеи?